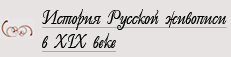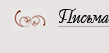Версальская серия картин (1905-1906 годы)
В области станковой живописи Бенуа продолжает работать в двух жанрах — пейзажа и исторической композиции, приобретающей в его трактовке характер своеобразной «исторической фантазии». По-прежнему увлекаясь акварелью, он, однако, с особенным упорством, к тому же впервые (и, добавим, единственный раз на протяжении своего длинного творческого пути) обращается к масляной живописи.
Его многочисленные этюды 1905 и 1906 годов, выполненные в приморском местечке Примель, написаны энергично, свободным мазком, просты и реалистичны по всему своему духу. На их основе возникает и композиция «Бретонские танцы» (1906), выдающая связь этой линии творчества мастера с работами его французского друга Люсьена Симона, писавшего картины из жизни бретонских рыбаков.
В версальских этюдах этих же лет проступает элегическое звучание темы: старый парк словно «одно из многочисленных кладбищ истории», где каждый памятник, каждое дерево читается как эпитафия, как «надгробие», за которым молча стоят тени прошлого. Кажется, будто живописец одиноко скитается по давно обезлюдевшим, заснувшим мертвым сном аллеям, с грустью вслушиваясь в отзвуки минувшего. В отличие от примельских работ, он воспринимает пейзаж как бы сквозь лорнет исторических воспоминаний, мемуаров, произведений поэзии и музыки; благодаря этому этюды приобретают характер лирических размышлений, что дает основания Асафьеву, говорящему о гранях эстетики русского пейзажа XIX и начала XX века — его простоте и скромности и вместе с тем глубоком отличие от пейзажа западноевропейского, сослаться именно на «Версаль» Бенуа: «Ни один западноевропейский художник не взял бы в нашей современности этой темы в ее философском аспекте: то ли в смысле левитановского «Над вечным покоем», то ли в смысле пушкинской мысли о «равнодушной природе», то ли в ироническом понимании сказки о «спящей красавице», которую уже никто, никакой принц не разбудит».
Из пейзажных зарисовок и этюдов возникают «исторические фантазии» так называемой «Версальской серии».
Бенуа не считал себя мастером сложной станковой картины; чтобы высказаться, ему всегда мало одной или двух работ. И он разворачивает рассказ о Версале в серию композиций. Пусть она построена не по единому, заранее разработанному сценарию, когда есть начало и конец, а каждый следующий эпизод дополняет и развивает предыдущий. Связь — в самом объекте изображения, в единстве настроения, в трактовке.
Реальный пейзаж Версальского парка становится здесь основой, в которую воображение художника «инкрустирует» (выражение Б. Асафьева) острые, нервные силуэты: король, придворные, слуги. В этих своеобразных «этюдах-картинах» маленькие фигурки иронически дополняют, оживляют пейзаж, делают яснее и нагляднее его ведущую тему. В иных случаях кукольные персонажи композиций Бенуа вырастают, оборачиваются к зрителю и, подавляя собою пейзаж, начинают играть в картине доминирующую роль («Король»). Мастер пытается увидеть в величавом образе старого Версаля идиллический памятник процветания искусств. Все люди смертны. Вечно только одно искусство. Об этом — картины «Фантазия на версальскую тему» и «Прогулка короля».
В «Версальской серии» жизнь понята как праздная и бессмысленная игра, рядом с которой царит искусство. Всесильное, всепроникающее и могучее. Но и оно ущербно: во времена Людовиков искусство, «несмотря на всю свою силу и красоту, носило оттенок дутости и напыщенности — оно было фальшивым». Недаром жизнь здесь походит на спектакль («Китайский павильон», «Купальня маркизы»). Границы театра и действительности стираются. Художник взирает на своих героев оценивающим, слегка ироничным взглядом режиссера, ставящего очередной эпизод большого спектакля, где старый парк предстает как сцена, на которой разыгрывался некогда один из актов «великой человеческой комедии». Он знает цену всем этим вельможным ничтожествам, хоть и рассматривает их не с позиций социальных, классовых. В самой основе его своеобразной «философии истории», тезисы которой разбросаны по разным статьям 1905— 1906 годов и отражены в картинах, лежит утопическая мысль о способности художников создавать великое искусство несмотря ни на что, вне зависимости от сильных мира сего, невзирая на их пустоту и паразитизм. Так было и в XVIII веке, когда «вельможи и потентаты играли во всем, что было действительно прекрасного в той жизни, роль фантошей, нитками которых двигали художники, и ее «прошловековая» феерия не что иное, как грандиозная и гениальная художественная фантазия. Отбросьте художников, весь созданный ими блеск, и великолепие этого театра превратится в ничто, в грязный разврат, в сухое умствование и в пошлую суету».
Еще более откровенное воплощение гримасы красивого и пышного, но изломанного и искусственного «двора чудес» находят в картине «Зимний сон», где сведены комедийные маски и живой пейзаж Версаля. Реальное и театр, действительность и фантастика сплетаются в новом ироническом сочетании, причудливом и тревожном. Так внутри «Версальской серии» живопись Бенуа движется навстречу театру. Это естественно; задачи, которые он хочет здесь решить, конечно же, лучше всего решаются на сцене. Но театра, где он мог бы осуществить свои замыслы, нет. Зато его герои уже сами поднимаются на подмостки. Возникает несколько вариантов темы, восходящей к «Итальянской комедии» Ватто.
Знаменательно, к примеру, что именно эпоха Людовика XIV, служившая для Уайльда символом подавления творческой индивидуальности в искусстве, оказывается в центре интересов Бенуа. С особой силой пленяет его Версаль. Прежде всего, сам дворец — величественный памятник классицизма XVII века, воплощение «колоссального стиля» Ардуена Мансара. Подстегнутое чтением книг, повествующих о быте и правах резиденции Людовика XIV, «философическое» воображение художника населяет старый парк образами минувшего. Возникает серия акварелей «Последние прогулки Людовика XIV».
Листы этой серии, не будучи прямыми иллюстрациям! к тридцати томным мемуарам Сен-Симона, навеяны его книгой. Бенуа следует за Менцелем, который в своих известных иллюстрациях к «Истории Фридриха Великого» Куглера и «Сочинениям Фридриха Великого» не буквально следует за текстом, а стремится вжиться в самую эпоху, в мысли и настроения автора, выражая в рисунке, имеющем самостоятельное значение, глубинную суть повествования. В художественной ткани листов, входящих в серию Бенуа,— следы изучения мемуаров мадам де Севинье, кардинала де Реца и других авторов, дневников, переписки, стихов и музыки XVII — начала XVIII века. Но особенно важны для художника картины, гравюры, шпалеры, рисунки этого времени: добиваясь «стильности», «настроения истории», того, что в его кружке именовалось специальным термином «эпошистость» (в этом плане следует отметить близость композиций Бенуа к Сомову), он вглядывается в историю сквозь призму искусства. Впрочем, ироническое отношение Бенуа-историка, далекого от идеализации французского абсолютизма поры его высшего расцвета, сказывается в таких словесных характеристиках героев этой серии: Людовик XIV — «мрачный старик, все еще величественный, но немного уже «слюнявый», а его свита — «блестящая и развратная».
Острота впечатления достигнута сочетанием строгого величия архитектуры и пейзажа с этими ничтожными персонажами: торжественная ода, в которую включен кусок житейской прозы. Нечто близкое иронии Сомова. Но, в отличие от Сомова, Бенуа повествует не об интимной жизни кавалеров и дам, а о последних днях, закатных сумерках целой эпохи. Он подчеркивает это и в названии серии.
Так Версаль, дополняя более ранние впечатления — Петергоф, Павловск, Царское Село, классические памятники Петербурга,— словно завершает формирование излюбленного круга образов художника. Это приводит к дальнейшему переключению внимания с современности на прошлое. Бенуа перешагивает, погружаясь в историю, надолго застревает в XVII и XVIII веках: «Я пассеист. Многое в прошлом представляется мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже более знакомым, нежели настоящее. Нарисовать, не прибегая к документам, какого-нибудь современника Людовика XV мне легче, мне проще, нежели нарисовать, не прибегая к натуре, моего собственного современника. У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все это в «плане современности». В этом признании нетрудно уловить отказ от идей, оплодотворявших передовое русское искусство 1860—1880-х годов. Склонность к пассеизму нельзя, однако, объяснить лишь особенностями личности и воспитания Бенуа; она при внимательном рассмотрении оказывается характерной для целого круга русской художественной интеллигенции 1890-х годов.
Интерес к прошлому в искусстве рубежа веков
«С юности,— пишет Б. В. Асафьев,— я ощущал себя на перекрестке двух живописных эпох — уходящего передвижничества и вновь возникающих течений». Ощущение, в высокой степени присущее художникам «кружка Бенуа». Но в представлении Асафьева перекресток «живописных эпох» по всем своим особенностям совпадает с периодом так называемого «интонационного кризиса» в музыкальной культуре, а «вновь возникающие течения» выступают как отражение эволюции общественных вкусов и общественных требований к искусству. При этом каждый раз обостряется идея преемственности культурных традиций и интерес к прошлому — обычным становится стремление вернуть искусство к простейшим его первоосновам, к эстетике забытых форм и конструкций. С другой стороны, корни формирующейся, хотя вырисовывающейся еще в достаточно расплывчатой форме, эстетики Бенуа и членов его «кружка» следует искать в общественно-социальной атмосфере времени, когда немалая часть художников, не видя путей борьбы и сил прогресса, в которые можно верить, погружалась в историю, уходила в мир мечты и грез. Это нередко было своеобразной формой инстинктивного антикапитализма, протеста, пусть вялого и бессильного, но почти всегда искреннего, против современной технической цивилизации и ненавистного жизненного строя. В литературе и музыке, в живописи и графике 1890-х годов осталось немало произведений, несущих на себе печать этого мироощущения.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: