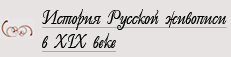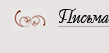Письма к Илье Самойловичу Зильберштейну
Краткая справка об Илье Самойловиче Зильберштейне
Илья Самойлович Зильберштейн (28 марта 1905 года, Одесса[1] — 1988, Москва) — российский литературный критик, литературовед, искусствовед, коллекционер, доктор искусствоведения. Один из основателей и редактор сборников «Литературное наследство» (98 томов, 1931—1958). Более двадцати тысяч исторических документов по истории русской культуры И. С. Зильберштейном были возвращены из-за границы и частных собраний в государственные фонды и архивы СССР.
Основатель Музея личных коллекций в Москве (был открыт 24 января 1994 года)
28 марта 1957 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Илья Самойлович!
Позволяю себе к слову “глубокоуважаемый” прибавить и это “дорогой”, так как действительно после прочтения Вашего письма почувствовал к Вам истинно душевное расположение!
Вашу книгу я получил сегодня и не знаю, как благодарить Вас за столь щедрый и прекрасный дар! [Здесь упоминается книга И. С. Зильберштейна “Николай Бестужев и его живописное наследие. История создания портретной галереи декабристов”] Решил, не откладывая, ответить Вам, хоть успел только проглядеть ее, обстоятельное же суждение о ней откладываю до того дня, когда более основательно ознакомлюсь с ее содержанием. Дело в том, что в данный момент я обременен срочной “театральной” работой и не могу уделять чтению, хотя бы интереснейшему, столько времени, сколько на это потребовалось бы. Но уже и этот беглый просмотр возбудил во мне чрезвычайный интерес ко всему, что Вы сообщаете с небывалой полнотой об одной из самых значительных эпох русского прошлого. Увидать все эти лица, “ознакомиться воочию” с местами их деятельности уже до крайности взволновало меня. Но кроме этого данная “портретная галерея” содержит изображения двух людей, память о которых свято хранится в семье моей дочери Анны Черкесовой. Покойный муж ее, художник Юрий Юрьевич, особенно ценил свое происхождение от Василия Петровича Ивашева и от прелестной поэтичной Камиллы Петровны Ле-Дантю. Несколько портретов и ценнейшие сведения об их жизни мы нашли в Вашей книге. Сам Ю. Ю. Черкесов скончался (летом 1943 г.), но он завещал эти свои чувства своей вдове (моей дочери) и сыну своему Александру, который, в свою очередь, сумеет внушить их своим детям (моим правнукам). У Черкесовых была и книжка, Вам несомненно известная: “Роман декабриста”, трактующая о супругах Ивашевых, но к крайнему огорчению нас всех эта книжка пока пропала и все поиски другого экземпляра ее оказались до сих пор тщетными. Вообще же получение Вашего труда — целое и весьма важное событие, и я еще и еще благодарю Вас.
Что же касается Вашего вопроса относительно Серова, то я могу Вам сообщить следующее. В вышедших двух томах моих воспоминаний (самостоятельно названных издательством “Жизнь художника”), разумеется, ничего о Серове не говорится, ибо рассказ обрывается на 1890 годе, но в IV части моих записок (остаются пока в рукописном виде — после краха Чеховского издательства до сих пор не нашлось издателя, который взялся бы за продолжение печатания моего труда) имеется в разных местах немало сведений о Серове. Как только я справлюсь несколько с теми делами, что отнимают у меня пока весь мой досуг, я займусь отысканием этих мест и поспешу Вам найденное переслать. К сожалению, и продолжение моих записок (в рукописи) кончается 1909 годом — иначе говоря, двумя годами раньше кончины Валентина Александровича, а следовательно, в них нет ничего о том периоде, когда наша дружба приобрела особенно тесный характер — прежде чем закончиться, к моему неутешному огорчению, самой бессмысленной ссорой!
Ваше сообщение о тех многочисленных моих работах, что находятся в Вашем собрании, вызвало во мне вполне понятные чувства, — как-никак это мои детки, а я их родитель. Меня радует мысль, что теперь они находятся в хороших руках и, вероятно, в “отличной компании”. Буду Вам благодарен, если как-нибудь сообщите, кто именно в этой компании состоит.
Двухтомным Вашим трудом, вышедшим в 1948 г. в серии “Художественное наследство” и посвященным Репину, я имею счастье обладать; но я не могу себе простить, что во время и пока книга не была исчерпана, я не приобрел бoльшую монографию о Репине Грабаря.
Сегодня же посылаю Вам иллюстрированный каталог моей выставки, устроенной в 1955 г. в Комо. Эта была наиболее полная из моих выставок на чужбине за последние двадцать пять лет. Впрочем, то было не только моим одиноким выступлением, но попыткой представить художественное творчество “всей семьи Бенуа”. Предполагалось объединить в одном помещении произведения и моего отца, и моих братьев, и наших племянников и племянниц. Но затем трудности, встретившиеся на пути осуществления этой затеи, заставили нас отказаться от первоначальной мысли и ограничиться только тем, что было сгруппировано (в чудесной Вилле Ольмо на берегах Комского озера) из вещей, созданных мной, моей дочерью Еленой и моим сыном Николаем.
Очень хочется, чтоб наша переписка не остановилась на этих письмах. Крепко жму Вашу руку, желаю Вам всего лучшего и еще и еще благодарю.
Совершенно преданный Вам
Александр Бенуа
Париж.
11 мая 1957 г.
...Боже мой, что это за колоссальный труд! Как Вам хватило сил на его создание! Вперед наслаждаюсь всем тем, что мне предстоит вычитать из него и что перенесет меня в былые времена. Такое “переселение во времени” является для меня величайшим наслаждением. И не то, чтоб я так уж разделял общее поклонение специально декабристами.
В моем “пассеизме” (ужасное слово, но я не знаю, чем его заменить) все прошлое мне дорого, все меня пленит. Перебравшись на уэллсовской машине времени в давно исчезнувшее прошлое, я чувствую себя там более себя дома”, нежели в настоящей обыденности. Что же касается декабристов, то вся трагедия их судьбы, все, что дышит в них личным благородством — располагает меня к ним...
Что касается до “Грешницы” Анри де Ренье, то мои иллюстрации к этому роману были готовы, гонорар за всю работу я получил, почти все клише, как черные, так и цветные, сделаны, но по непонятным причинам книга так и не появилась на свет. Возможно, что виной тому послужило назревание гитлеровской смуты, возможно, что мой тогдашний издатель Edmond Bernard (милейший человек и самый несуразный идеалист) просто разорился. Из моих рисунков к “Грешнице” кое-что мне нравится, большинство же нет. Подобная же участь постигла и другую затею: мои иллюстрации к “Капитанской дочке”, о чем я пишу и И. Э. Грабарю. По последнему примеру можно судить об уровне пресловутого французского в нынешней его стадии. А вообще на плохом пути художественная культура так называемого “просвещенного” (мирового) общества...
Париж.
31 августа 1957 г.
Вашу чудесную книгу о H. A. Бестужеве я читаю с большим интересом. Вы ею создали драгоценнейший памятник той эпохи, и Ваше изложение обладает той дельностью (по-немецки Sachhchkeit), которую я особенно ценю в исторических трудах. Какой чудесный и характерный то был человек! И какую великую пользу для себя и для истории он извлек из того печального факта, что он оказался на каторге и в ссылке! Правда, как художник он не преодолел известной любительской сухости и робости, но это не мешает его портретной галерее быть весьма характерной, и все эти люди такие живые и своеобразные, что с каждым хотелось бы ближе сойтись. Интересно, что и “места действия” пейзажи, селения, интерьеры (ненавижу это слово, но другого так и не найдено) представлены с той же дельностью. Во всем этом есть что-то удивительно трогательное. Даже для того, кто не разделяет того восторга, который вызывают декабристы в сердцах и думах более прогрессивно мыслящих, они сами по себе (и декабристы и весь “декабризм”) все же полны трагизма и затрагивают в душе какие-то весьма волнующие и возвышенные струны!
<…> Мне ужасно не повезло с моей монографией. Как раз когда все было готово, грянула революция, мой издатель исчез, бросив все на произвол судьбы. Кое-какие отпечатки Лукомский передал мне гораздо позже уже здесь в Париже, целая же партия их оказалась в какой-то чайной на Екатерингофском проспекте, где эти бумажки служили салфетками. То, что было разложено по столикам, случайно зашедшие в чайную наши знакомые сунули себе в карман, но когда они попробовали получить и то, что было в запасе, то хозяева, испугавшись, как бы за что-то неведомое не поплатиться, решительно отказались, а на следующий день столы оказались пустыми. Из статей для моей монографии у меня сохранились все три (переданные мне тем же Лукомским Волконского, Волошина и Яремича). Я их дал переписать и копии пришлю Вам. Что же касается до статьи Маковского, то, вероятно, она была тождественна с той, что он теперь публиковал в своих “Портретах”. Где же остальное, включая мою биографию, составленную Лукомским (около 1915 г.), я не знаю; Лукомский же скончался (на юге Франции) лет пять-шесть тому назад.
Как бы такая же судьба не постигла и мои автобиографические записки (два тома из коих вышли в Америке и Вам известны). Между тем моя “чистовая рукопись” доходит до 1905 г., а та часть ее, что в менее чистом виде, — до 1910 г. Друзья все советуют, чтоб я продал все свои рукописи и весь здешний мой архив какому-либо из американских музеев, собирающих разные исторические документы, мне же было более по душе, если бы все это было приобщено к тому, что уже оказалось в хранилищах моей родины. Многое в этой массе представляет действительный интерес для истории искусства в России.
<…> Большим утешением мне служит то, что Вы пишете о тех папках, которые милый Стипа (это наши дети так прозвали Степана Петровича [Друг А. Н. Бенуа, художник и искусствовед С. П. Яремич, скончавшийся в Ленинграде в 1939 году.]) сберег и которые теперь (если я правильно Вас понял) где-то в Эрмитаже (почему не вместе с архивом в Русском музее?). Хоть это уцелеет. Но столько же (если не больше) находятся при мне, и, разумеется, среди всей этой массы найдется немало художественно-любопытного (или хотя бы в бытовом и топографическом смысле). Озабочен же я особенно не столько за свои произведения, сколько за ту горсточку чудесных акварелей и рисунков моего отца, которые мне достались в наследство. Тут я уже чувствую определенную ответственность. Между тем мои “наследники” (две дочери, один сын, четыре внука, два правнука и две правнучки), если и “любят все это”, то все же едва ли вполне сознают значение всего этого. Будучи людьми, далеко материально не обеспеченными, самое хранение такой массы может оказаться им не под силу. “Доживая последние сроки”, я сознаю, что надо что-то сделать, а вот что, я и не знаю. Вот нечто, что может послужить темой для нашей беседы…
Париж.
14 ноября 1957 г.
Не огорчайтесь относительно судьбы моего архива и т. п. Никаких решений я не собираюсь принять в ближайшее время, и во всяком случае мое основное желание было бы, чтоб все, что представляет документальный интерес о деятельности моей и всего нашего кружка, досталось бы родине. Но вопрос этот требует всестороннего обсуждения. Столь же сложен и вопрос об издании моих дальнейших воспоминаний. Дело это застряло, и все здешние условия таковы, что не предвидится в близком будущем момент, когда оно снова может сдвинуться с места.
Очень мне было приятно узнать, что Вам удалось достать коллекцию всех газетных статей. Я тоже обладаю такой же. Было бы интересно их дополнить одну посредством другой, снабдив все необходимыми примечаниями. Пожалуй, этим была бы заслужена благодарность будущих историков русской культуры. Что же касается в частности “Amadeo”, то, хотя убей, а я теперь не припомню, что это или кто это. Единственный псевдоним, которым я когда-то пользовался — это Б. Вениаминов, но, пожалуй, в период сотрудничества в я уже не имел случая им пользоваться. Что же касается до спектакля “Маскарад”, то мне помнится, что нелепо роскошную его постановку я почему-то увидел позже.
…Увы, кроме как в английском переводе, моя книга о балете не существует. Помешала война 1939 г. Затевавшееся было Капланом русское издание показалось ему вследствие каких-то чисто личных причин нежелательным, и рукопись моя продолжает томиться у меня в заветной корзине. А следовало бы ее издать. Как-никак, а мое сообщение, касающееся области, ныне сделавшейся какой-то вселенной манией, сообщение свидетеля № 1, обладает значительным интересом…
Париж.
27 — 29 апреля 1958 г.
…Вы интересуетесь моим мнением о Дюфи и других? Сколько в былое время я нашелся бы написать “филиппик” на подобные темы!.. Но с самого 1940 года я больше нигде не выступаю печатно, и вот это затянувшееся молчание как-то отучило меня излагать свои мысли в связном виде. Хотелось бы кричать, кричать, вопить... Увы, все позиции сданы и заняты всякой бесовщиной, а лезть приступом на столь укрепленные бастионы представляется совершенно безнадежным. Мир переживает тяжкую болезнь, быть может, и смертельную! Может быть, это агония, а та пестрота, чем угощают абстрактивисты, или то шутовство, которым заняты все с растущим успехом Пикассо, Дали, — все это предсмертный бред? Таким же (судя по иллюстрациям в журналах) представляется и вид Брюссельской Всемирной выставки, и особенно французский павильон. Говорят, это триумф техники, но на кой черт нужен этот триумф, когда он является главным образом апофеозом уродства, внезапно достигшего монументального выражения. Уже про выставку 1937 г. нельзя было сказать, чтоб она отличалась какой-либо внушительностью и прелестью, но тут мы шагнули так далеко, что, пожалуй, уж достигли самого края бездны.
Однако, стоп! Такая песенка больно отдает старческим брюзжанием, уж больно эти вопли бездоказательны. Или, напротив, доказательств столько, что на одно их перечисление не хватит ни времени, ни куражу.
Прибавлю только, что исключительную одаренность Шагала я признал еще в России один из первых, если не первый; я и теперь эту талантливость не отрицаю, но не подлежит сомнению и то, что его духовный организм не выдержал головокружительного успеха, который выдался ему in the world. То же произошло в наше исторически обезумевшее время с другими исключительно даровитыми художниками (и музыкантами). Имя им легион, и среди этих бесов находится и Дюфи (и я знаю его начатки, куда более, куда отраднее, нежели его последующие “монументальные шалости”), и Дали, Громер, Леже, Сутин, Модильяни и, прыгнувший выше всех, Бернар Бюффе... Всего удивительнее то, что одновременно (без связи с этим) процветает культ всякой старины, всякого высокого мастерства, начиная с того давнейшего, что откапывается из земли, и кончая творчеством барокко и даже классицизма.
В полном и презренном загоне оказалось лишь “вчерашнее” и, между прочим, всякая картина и всякое изваяние, имеющие какой-либо смысл — сюжет. Сказать кстати, вот в силу этой моды и туристы, посещающие русские музеи, отворачиваются... от всего, что дали передвижники...
Прошу прощения за то, что вместо дельного рассудительного ответа я пустился в такое довольно бесформенное расходование мыслями. Но Вы коснулись своим вопросом наболевшей раны —вот я и не утерпел. Постараюсь в дальнейшем воздержаться от такого буйства и на другие Ваши вопросы отвечу спокойнее, “деловитее”.
С Вашей оценкой искусства Рериха я совершенно согласен: и я ценю только его период творчества, когда им двигало искреннее увлечение какими-то видениями древнего прошлого, когда ему удавалось это прошлое передавать с большой убедительностью. Эти же “Гималаи” последнего времени являются показателями все той же его мании величия, которая толкает Рериха на роль какого-то пророка, чуть ли не Мессии, и которая его заставляет заниматься оккультизмом и, наконец, привела его к тому, что он поселился у подошвы “самых высоких гор” нашей планеты, откуда он взирал на них не без чувства известного равенства... Буду Вам очень благодарен, если бы Вы прислали мне каталог выставки <...>
Вы спрашиваете, над чем я сейчас тружусь. Признаться, ни над чем особенным. Что-то маракую, пишу письма, ибо во всех концах света у меня живут родные, знакомые и “почти друзья”, но крупной последовательной работой я уже давно не занят. Последняя крупная работа была постановка “Петрушки” в Вене (прошла на сцене около полутора месяца назад, но изготовил я рисунки для нее еще прошлой весной — 1957). Теперь мечтаю закончить разные давно заброшенные на полпути вещи. Думаю заняться и продолжением (после 1910 г.) своих Воспоминаний. Но мешает исполнению доброго намерения глубокая моя деморализация, происходит она оттого, что все еще не находится издатель. О, если бы таковой нашелся, как бы я воспрянул, помолодел, силы ожили бы, память прояснилась бы. Но вот, издается всякая дребедень (сводятся какие-то счеты давно минувших дней), и на это находятся средства. А вот на то, чтоб сохранить (в печатном виде) показания одного из самых осведомленных и правдивых свидетелей значительного периода художественного творчества в России, на это средства отсутствуют. Застрял почему-то и перевод на английский язык (затеянный еще год назад в Лондоне) того, что уже появилось в Чеховском издательстве.
<...> Первый раз я иллюстрировал “Капитанскую дочку” в 1904 г. То был заказ Экспедиции государственных бумаг, затеявшей издание популярных детских книжек в самом широком масштабе (тогда же мне были заказаны для той же цели “Пиковая дама”, “Последние могикане” и “Медный Всадник”), но издание не состоялось, мои же оригиналы были мне возвращены гораздо позже. В 1919 или 1920 г. мне были заказаны иллюстрации “Капитанской дочки” каким-то издательством (это Вы и имеете в виду), и эта книжонка, позорно напечатанная на дрянной бумаге, вышла (картинок было 5 — 6), и я, помнится, получил один “авторский” экземпляр, который, вероятно, и находится среди моих книг (и в составе их, пожалуй, попал в Русский музей). Рисунки эти большой чести мне не делают. Здесь в Париже в 1945 г. я сделал заново всю серию иллюстраций к “Капитанской дочке” довольно крупного формата для одного французского издательства (забыл фамилию этих господ, не могу отыскать — все в том же хаосе) и даже получил за работу 2/3 гонорара. Однако заказчики, убедившись, что это “совсем не то, что они ожидали” (nous avons cru que cela serait quelque chose dans le gout des Ballets Russes, de Petrouchka [Мы думали, что это будет нечто во вкусе Русских балетов, “Петрушки” (франц.).]), были горько разочарованы и от издания отказались. Так мои рисунки пролежали с тех пор под спудом. Рисунки большого формата — Vollbilder, предназначались для каждой главки — готовы, но виньетки и концовки остались на полпути. Судить мне самому об их достоинстве трудно.
Париж.
6 июля 1958 г.
Дорогой Илья Самойлович!
Не удивляйтесь моему долгому молчанию, я все это время болел (воспаление легких с тревогой в отношении сердца), да и сейчас только начинаю поправляться, продолжая чувствовать ужасную слабость. Как раз письмо Ваше (с интересным предложением издать “Капитанскую дочку” с моими иллюстрациями) я получил в самый первый день заболевания. <…> Предложение Ваше я считаю очень интересным и принципиальное согласие даю не задумываясь, однако до того, чтоб дать делу настоящее движение, более далеко, чем кажется. Во-первых, я как-то не вижу возможности начать “производительным образом” это дело без личного и постоянного контакта с издателем. В таком деле на каждом шагу возникают разные вопросы, требующие тут же того или иного решения. Другое дело, если бы меня уже не было на свете и мой труд оказался бы вне опеки автора! Но вот я существую и не отказываюсь иметь мнение по всяким вопросам, касающимся издания своего детища. Все такое требует “переговоров”. Тем не менее, я намерен послать Вам две-три фотографии для ознакомления. Быть может, эти рисунки Вас разочаруют, тогда вопрос решится просто. Затем остается вопрос об иллюстрациях в тексте. Их я предполагаю по числу глав — около 30 (14 глав по виньетке в начале и в конце, и еще “Эпилог”), в виде заголовок и концовок каждой главы. Существуют же они только в легких набросках и требуют завершения — вот и спрашивается, хватит ли у меня на то сил и времени? Работа эта как раз из самых кропотливых и напряженных. Что же касается до моего личного отношения к моей работе, то оно далеко не имеет характера чего-либо твердого, уверенного или просто удовлетворенного. Кое-что мне нравится и я считаю вполне удачным, а кое-что нет, переделать же мне, пожалуй, теперь не по силам. <…> Нужно, наконец, ознакомить Вас с техникой моих рисунков. Они однотонные, исполнены тушью или сепией, местами подчеркнуты пером. Предполагалось, что они будут воспроизведены фотомеханически и отпечатки раскрашены от руки (согласно моим образцам) трафаретным способом. Здесь этот способ пользуется фавором для edition de luxe. [Роскошных изданий (франц.).] Но возможно ли прибегнуть к нему в Москве? И так ли он хорош по существу? Как бы то ни было — полные во всю страницу иллюстрации желательней в красках. Может быть пришлось бы мне раскрасить свои рисунки акварелью и воспроизводить их — хотя бы просто “трехцветкой” (как напечатаны внетекстовые картинки в моей “Пиковой даме”)? Вот пока все про “Капитанскую дочку”.
<…> К моему большому огорчению спектакли Московского балета и МХТ совпали с моей болезнью, и я ни туда, ни сюда не попал. Однако, все эти недели только и было разговоров о них. Обсуждались они на все лады, и мнения были крайне противоположны. “Профессиональные балетоманы” среди моих друзей критиковали все безжалостно (и явно несправедливо), и однако и они сходились на том, что школа стоит все еще на той же высоте, как стояла. Но что касается отдельных артистов, то тут оказалось непримиримое разногласие. Особенно попадало за “чрезмерные переживания” и слишком подчеркнутую мимику. В таком мнении сказывалось (вредное с моей точки зрения) влияние Дягилева, который ненавидел сюжет, как таковой, что и являлось нашим, между мной и им всегдашним особенно лютым спорным пунктом. Мимоходом прошу Вас, дорогой Илья Самойлович, принять во внимание, что, если декорации “Жизели” и исполнены по моим эскизам, то отнюдь меня не удовлетворяют. Их исполнял (таково теперешнее здесь правило) художник, состоящий при театре Mr Moulene (или Moulin?), и исполнил их наспех самым грубым халтурным образом. То ли дело было те декорации к “Жизели” (тоже для Opera), которые были созданы в 1924 г. тоже по моим эскизам, но написаны моим сыном — техником бесподобным. Увы, они в 1940-х гг. сгорели, а вот те, что Вы видели, созданы при новых порядках… МХТ имел среди большой публики головокружительный успех, но люди, когда-то имевшие счастье видеть “оригиналы”, с грустью критиковали “копии”. Но таков закон. Сохранить в полной целости что-либо, созданное для сцены, представляется абсолютно невозможным, и все эти разговоры про “традиции” Шекспира, Мольера, Островского и т. п. — вздор. Все же в отношении классиков полезнее придерживаться хоть какой-то кажущейся традиции, нежели допустить полную вольность... Лично я остаюсь безутешен, что мои свидания с Улановой, собиравшейся меня посетить, и с группой “художественников”, из-за моей хвори, не состоялись. Особенно меня интересовала Уланова…
О милейших Трояновских многого не скажешь, кроме того, что это были действительно милейшие, радушнейшие и благодушнейшие (оба — и муж и жена) люди, и что в их обществе чувствовалось особенно уютно. Могу еще засвидетельствовать, что шарж Серова на Ивана Ивановича (он воспроизведен у Грабаря) чудесно передает всю манеру быть его, вечно о чем-то хлопотавшего, суетившегося и как-то на людей наскакивавшего. При этом — безмерно гордившегося своими коллекционерскими удачами. Было и много по милому смешного в нем, что он видимо сознавал и даже немного этим кокетничал. Прямым контрастом ему являлся его ближайший конкурент — доктор Ланговой — человек очень уравновешенный, внешне — спокойный. Я очень любил и Ивана Ивановича и его жену.
Никто здесь не опознал того сановника, который изображен на портрете Репина. Однако, кажется, что я его встречал dans le monde. [В обществе (франц.).]
За каталог выставки Рериха большая благодарность! <…>
Обнимаю и желаю всего наилучшего
Александр Бенуа, Париж.
Р. S. А когда же состоится наше свидание?!!
20 декабря 1958 г.
Многоуважаемый и дорогой Илья Самойлович!
Вы, вероятно, удивлены, что наша письменная беседа так внезапно прервалась, и, пожалуй, я даже вовсе не ответил на Ваше последнее письмо! Но это произошло исключительно из-за состояния моего здоровья <…> Вот и теперь врачи утешают, будто мне значительно лучше, но этого я сам не чувствую. Все по-прежнему страдаю депрессией и главным образом бессонницей, что заставляет меня принимать ряд снотворных, а это влечет за собой большую умственную усталость. Что-нибудь делать последовательного и толкового, в частности рисовать или живописать, я не могу.
Сказанное приводит к вопросу об издании “Капитанской дочки” с моими иллюстрациями. О том, что мне теперь сделать многочисленные концовки и заставки, увы, не может быть и речи, а когда вернется способность это сделать — никак нельзя предвидеть. Остается по-прежнему ряд больших композиций (эти рисунки предполагаются быть в красках). Фото с трех из них я при сем посылаю. К сожалению, эти снимки далеко не удовлетворительны, но мой обычный фотограф покинул Европу, и мне пришлось обратиться к случайному, довольно-таки посредственному. Однако ж и по данным примерам можно судить как о характере рисунков, так и о том, подходят ли они к данной затее…
Прибавлю при этом, что предпочел бы иметь дело лично с Вами или с кем-либо из доверенных Вами лиц, а не с каким-либо учреждением вроде “Экзаменационной комиссии”. До сих пор этого со мной не бывало, а подчиниться таким требованиям я бы счел за нечто обидное и несогласное с моим достоинством.
Буду с превеликим нетерпением ждать ответа на это мое письмо — точнее, нашей переписки вообще, что я ценю в самой высокой мере, а пока позвольте пожелать Вам на Новый год полного благополучия и чрезвычайного успеха во всех Ваших делах и предприятиях.
Крепко жму руку и остаюсь душевно Вам преданный
Александр Бенуа, Париж.
5 января 1959 г.
Дорогой Илья Самойлович,
Мое предыдущее письмо было слишком мало содержательно (все по болезни), и я собрался сегодня хоть кое-что добавить.
Начну с моих воспоминаний о Серове. До сих пор не удосужился порыться в своих бумагах — точнее, не хватает сил это сделать. Но будьте уверены, что, как только мне станет легче, я займусь этим и при помощи милого Эрнста разыщу все, что представляет хоть какой-либо интерес.
В частности, что касается моей жены и ее портрета, то к величайшей моей досаде, я принужден был его оставить в Питере, ибо так пожелала особая комиссия, в которой, между прочим, был и милый Нерадовский. Где теперь этот портрет Анны Карловны, я не знаю. Скорее всего в Русском музее. Желательно, чтобы он был там.
Лично, впрочем, я не очень любил это изображение моей обожаемой супруги. Как художественное произведение это великолепная вещь, но как передача характера моей жены портрет далеко не соответствует истине. Несравненно ближе передает Анну Карловну тот портрет, который исполнила с нее З. Е. Серебрякова. Он со мной здесь. В серовском же портрете слишком подчеркнуто то, что в характере Анны Карловны было подвижного, веселого, открытого. Получилась какая-то забияка, вакханка. А это не соответствовало действительности. Серов очень ценил в моей жене ее “веселость” (чудесно вязавшуюся с ее образцовым поведением матери и супруги). Он любил с ней шутить и, мне кажется, ценил тот род шутливости, который был ей присущ. Но, желая передать именно эту черту, ему нравящуюся, он впал в ошибку и создал некую почти карикатуру. Чрезмерное подчеркивание было ему вообще свойственно.
А кстати, что сталось с неоконченным портретом старшей сестры моей жены — Марии Карловны — жены моего брата Альберта, впоследствии, около 1891 г., разведшейся с ним? Грабарь в своем перечне очень неодобрительно отзывается об этом портрете, писанном Репиным. Но я считаю, что в данном случае он не прав. Все же портрет характерен (Репин изобразил ее сидящей за роялем — она была пианисткой) и очень схожий, очень живой…
Что же касается моей жены, то она играла весьма значительную роль не только в моей личной жизни (мы считали себя предназначенными друг другу с 16 лет), но и в жизни всего нашего кружка…
Увы, я не в состоянии дальше продолжать — устал и плохо себя чувствую, так что до другого раза. Тогда отвечу на некоторые Ваши вопросы. Обещал мне и фотограф, который сделает снимок и с “Больной лошади” (рисунок этот исполнен почему-то на литографической бумаге). Он подарен был как раз Анне Карловне, когда Серов был в гостях у нас в Финляндии. Надеюсь, что тот же фотограф даст более приличные снимки с моих композиций в “Капитанской дочке”. Но интересует ли Вас еще последнее: укажу попутно что, судя по письму Р. Г. Дрампова, в музее Эривани имеются мои рисунки 1904 г. на ту же тему. Они были исполнены по заказу Экспедиции государственных бумаг для народного (крайне дешевого) издания, но события помешали осуществить добрую затею (Дрампов же приобрел их гораздо позже от H. E. Добычиной, которой я когда-то их продал) <…>
Париж.
28 января 1959 г.
Дорогой Илья Самойлович!
Вот и “Больная лошадь”. На сей раз фотография вполне приличная. Рисунок этот сделан на литографической бумаге (другой тогда случайно у меня не нашлось). Серов, гостивший в то лето 1899 года у своего друга В. В. Матэ, жившего в Териоках — в получасе ходьбы от того места, где мы наняли себе дачу (на Черной Речке близ Райволы), у нас завтракал, а после завтрака, тронутый тем, как моя жена ухаживала за больной лошадью наших хозяев, нарисовал этого Ваську с обычным мастерством и подарил рисунок ей — Анне Карловне.
Больше не пишу, чтоб не задерживать отправку. Остаюсь совершенно Вам преданный
Александр Бенуа
Р. S. Получили ли Вы четыре фотографии (сколь мало удовлетворительные!) с моих иллюстраций к “Капитанской дочке”?
Париж.
7 марта 1959 г.
В том-то и беда, дорогой Илья Самойлович, чтo мне продолжает быть легче”, что я чувствую все бoльшую слабость — вот почему я не могу приступить к раскопкам в моих (еще не изданных) воспоминаниях. А хочется мне самому эти раскопки произвести, не сдавать дело милому Эрнсту. Да без моего личного участия это даже может оказаться затруднительным. Однако я не теряю надежды, что я эти раскопки произведу, и если что найдется интересное для Вас, то я тотчас Вам это сообщу. Надо еще сказать, что последние недели у меня целиком ушли на одну скучную работу, а именно на корректирование перевода на английский язык моих воспоминаний (тех, что появились в чеховском издании), и назвал я эту работу скучной, ибо переводчица не оправдала моего доверия, и моя книга оказалась буквально изувеченной как по милости ее непонимания сути, так и потому, что г-жа Б. позволила себе сделать самые дикие сокращения. Но дело сделано и в целом его не поправить. Меня же одолевает тоска, не только не рассеявшаяся, но еще усугубившаяся во время такой правки.
За Ваши выписки благодарю Вас сердечно. Если еще найдутся особенно для меня интересные сведения, пришлите. Как я ни отошел от жизни (годы наконец стали меня одолевать, вот и почерк все более портится), все же каждый раз, как приподымается занавес над прошлым, я оживляюсь — эго вроде утоления какой-то жажды. Некролога Серова у меня здесь нет (хотя кое-что из моих “Художественных писем” в уцелело), и, если бы Вы были такой милый и прислали бы мне копию с этой статьи, я был бы Вам очень признателен.
Прилагаю при сем второе фото “Больной лошади”. Надеюсь, оно дойдет до Вас в целости. Фотографии “меня с Серовым” как будто никогда не было. Он ненавидел снимки с себя любительского характера и всячески от таковых увертывался. Все же я его украдкой снял во время той чудесной прогулки (в 1911 г.), которую мы в компании с Тамарой Карсавиной, с ее братом, с Ольгой Федоровной и с моей женой совершили в Альбано. Это была удивительная пора, когда мы с женой и Серовы (и Стравинские) жили в Риме в одном отеле и почти не расставались. И вот, к моей вящей досаде, не только эти снимки (еще в Петербурге) исчезли, но исчезли тогда и самые пленки-негативы. Обида жестокая, и я склонен был видеть в этом чуть ли не что-то “мистическое” — после того, что в ту же пору (но уже в Париже) я повздорил с милым Антошей (идиотская история из-за одной бестактности Бакста). Мне почудилось, что как бы в наказание изъяты из моего обладания образы безутешно оплакиваемого друга.
Благодарю за сведения о портрете моей belle soeur Марьи Карловны. Вот бы получить фотографии с него!
Дневники я вел во все времена жизни, но не всегда последовательно. Во время поездок за границу настоящими дневниками являлись мои письма отцу, сестре Кате, жене, друзьям. В течение трех сезонов 1912 — 1913, 1913 — 1914, 1914 — 1915 моей работы в Художественном театре я писал жене каждый день и очень подробно обо всем. В этих письмах многое слишком интимного характера, и я не желал бы, чтобы такие пассажи были когда-либо опубликованы, но имеется в них и масса совсем “посторонних” сведений. Во время моих длительных экскурсий туда и сюда своего рода дневниками являлись мои путевые альбомы, которые, вероятно, все в Русском музее, если только С. П. Яремич действительно все передал из моего художественного наследства.
Что Вам сказать о занавесе? Сделал я этот эскиз в 1907 г. для Старинного театра (затея барона Н. В. Дризена); представляет же он как бы занавеску, скрывающую сцену мистериального театра, из-за которой выглядывают главные персонажи мистерии: Ангел, Черт, Адам и Ева. Мне помнится, что это было не так плохо.
Ваше письмо не могло меня утомить. Чем длиннее, чем чаще, тем лучше. Но вот я смущен, что мне не удается ответить так, как хотелось бы. Уж очень быстро устаю. Поэтому предпочитаю положить перо, дабы не слишком задерживать отправку. Вас же, дорогой Илья Самойлович, обнимаю и все же не теряю надежды это произвести в натуре. Если увидите Кукрыниксов, то передайте им мой привет.
Душевно преданный Вам
Александр Бенуа, Париж.
25 марта 1959 г.
Дорогой Илья Самойлович!
Спасибо сердечное за присылку копий с моих двух статей (Серов на Римской выставке 1911 г. и некролог Серова). Но в этих статьях мучащий Вас (особенно меня) вопрос как бы решается сам собой. Ничего я не сумел бы ныне сказать лучше, чем я сказал тогда, и мне кажется, что если бы я себя пересилил (а мне запрещено это делать) и написал бы для Вас что-либо вновь, то это рядом с высказанным показалось бы тусклым, как всякая имитация. Однако Вас интересует, кроме вообще всех моих отношений с Серовым, — один конкретный вопрос: что послужило поводом к нашему раздору, и вот сегодня я постараюсь на него ответить.
То был глупейший случай. Декорации к балету “Петрушка” писались в Петербурге (1911 г.) и, прибыв в Париж, оказались несколько пострадавшими. Пострадал, между прочим, “портрет Фокусника”, представленный на одной из стен комнаты Петрушки. Я не мог взяться за исправление этого дефекта, так как у меня нарывал нарыв на руке; я очень мучился и должен был сидеть дома. Тогда Дягилев обратился к Левушке Баксту с просьбой починить этот портрет. Бакст это сделал, однако вовсе не придерживаясь того, что мной было задумано, а дав лицу фокусника совсем другой поворот. Я был настолько уверен, что все будет сделано согласно моей затее, что я не потрудился проехать в декорационную мастерскую и проверить. И вот на генеральной репетиции, когда занавес поднялся над второй картиной и я увидел на своей декорации нечто совершенно чужое, меня разобрала ярость, и я на весь театр разразился протестами и бранью и выбежал на улицу, бросив все, что у меня было в руках (портфель, все рисунки костюмов). По окончании репетиции моя жена прибыла в наш отель в сопровождении милого Валентина Александровича, и последний, узнав, наконец, в чем дело, с трогательным благодушием предложил свои услуги, чтоб портрету фокусника вернуть его настоящий вид, удалив живопись Бакста. К сожалению, во время этих переговоров нарыв стал все более заявлять о себе, и это не способствовало моему благодушию. Напротив, я стал произносить всякие ругательные слова по адресу Левушки Бакста и употребил при этом такие выражения, которые вовсе не были мне свойственны. Они-то и огорчили Валентина Александровича настолько, что он написал мне известное письмо, в котором, однако, были опять-таки некоторые не понравившиеся мне намеки. Все же я счел инцидент исчерпанным и отложил окончательное объяснение с другом до личного свидания. Получилось же нечто действительно фатальное. Серов чуть ли не на следующий день (переписав злополучный портрет) отбыл в Россию, и наши ежедневные встречи таким образом прекратились. Но мог ли я тогда ожидать, что я вообще больше не увижу Серова живым? Если бы я в малейшей степени подозревал нечто столь ужасное, то, разумеется, я бросился бы к нему, и мы бы несомненно объяснились начистоту. Я бы мог также написать ему толково объяснительное письмо-извинение (и поблагодарить за его услугу с портретом), но, откладывая это дело со дня на день, я и довел, так и не объяснившись, до октября, а когда свершилось ужасное, то чуть не обезумел от отчаяния перед непоправимым. Впрочем, я почти уверен, что Валентин Александрович давно простил мне и ругательства по адресу общего друга, и вообще мою вящую в этой истории бестактность, но вполне понимал, что он не считал возможным предпринять что-либо к нашему примирению. Вот и вся эта печальная, глупая и недостойная история моей ссоры с милым Антошей. я до сих пор переживаю и оплакиваю, точно она разразилась не 48 лет тому назад, а только что сегодня утром.
Однако я написал столько, и я так устал, что для другого не хватит ни сил, ни времени. Потому прекращаю.
Крепко пожимаю руку, дорогой Илья Самойлович, и остаюсь всецело Вам преданный
Александр Бенуа, Париж.
Еще и еще благодарю за выписки.
28 апреля —5 мая 1959 г.
Дорогой Илья Самойлович!
Ваша любезность превосходит все. Вот внуку моему Александру Черкесову Вы воскресили его прадеда, его прабабушку и его дядю! Все эти лица, от которых он происходит, были до сих пор чем-то мифическим, туманным... Ну а теперь они для него стали вполне реальными. Он Вам, и моя дочь вместе с ним, бесконечно благодарны; они действительно осчастливлены. Я вполне их понимаю, так как в сильной степени сам обладаю даром “пиететного отношения к предкам” и лишь очень тревожусь о том, что продолжение моей породы обеспечено лишь в лице одного молодого человека — единственного сына моего единственного сына, да и этот отпрыск стал не то итальянцем, не то южноамериканским испанцем (эта шаткость в национальном отношении один из самых характерных показателей времени), женат на аргентинке (прелестной, но едва ли сулящей ему прочную семейную жизнь; они уже 5 лет женаты и детей нет), живет в Буэнос-Айресе <…>
Вы снова в своем последнем письме обнадеживали меня, что не лишен возможности Ваш приезд в Париж. Ах, до чего я мечтаю о том! Сколько тем мы бы перебрали! Как бы Вы обогатили своими неисчерпаемыми сведениями о русском искусстве, сколько бы я в устном обмене мог нарассказать, вперемежку со всякими пустяками (но и пустяки бывают характерными), такого, о чем другие не осведомлены. Пока же в ожидании нашего свидания (благо за последние недели я чувствую себя крепче) я наконец превозмогу свою инерцию, вытащу рукопись III, V части и произведу в ней желательные поиски, касающиеся Серова. К сожалению, я вовсе не уверен, что эти поиски увенчаются обильными результатами. Уж очень Валентин Александрович был человеком замкнутым, сторонившимся всякого “скандала” (не то, что Дягилев или Бакст), и по своей натуре уравновешенным, спокойным, миролюбивым. И тем не менее, если кого мы (вся наша тесная компания 1890-х — 1900-х годов, состоявшая, кроме меня, из Дягилева, Философова, Бакста и Нувеля) “боялись” и кого безусловно уважали, так это именно нашего чудесного “молчальника”, чуть всегда насупившегося. С его мнением, с его суждением никому из нас не пришло бы в голову спорить — до такой степени каждое его слово было подлинным и убедительным. Такие личности, как супруги Трояновские, как Гиршманы, как Боткины (Сергей Сергеевич и Александра Павловна), как Остроухов, находясь в отношении Серова на “большей дистанции”, нежели мы, все же относились к нему с тем же, я бы сказал, подобием пиетета. Серов представлял и для них тот же абсолютный авторитет, и для этого ему не приходилось употреблять каких-либо усилий и это получилось как-то само собой. Скажу еще так: самая, вовсе не намеренная, “таинственность” Серова (особенно рядом с его закадычным другом, цыганистым, очаровательным “вралем”, душой нараспашку” — К. Коровиным) усиливала эту его “природную авторитетность”. Меня при первых встречах с Валентином Александровичем такая его манера быть скорее коробила, но эта самая манера, при возобновлении наших встреч, после моего трехлетнего пребывания за границей, вдруг осветилась совсем другим светом. Он стал каким-то трогательно приветливым. Возможно, что это получилось потому, что за время моего отсутствия он более тесно сблизился со всей редакцией “Мира искусства”; он лучше понял, что мы из себя представляем и как следует относиться ко многим, нам всем общим чудачествам и даже гримасам. Тогда он стал безусловно и моим другом в полном смысле слова… Каким нелепым образом эта дружба получила трещину, после того как в Риме и затем в Париже она достигла своей высшей точки, Вы уже знаете из моего предыдущего письма. Ах, что бы я дал, чтоб я тогда тех грубых слов (отнюдь не по его адресу) не произносил, что бы я дал, чтоб мы снова встретились до того, когда он покинул земное существование! Убежден, что он пожурил бы меня, посрамил, даже изобразил бы некоторую сердитость, но в конце концов мог бы обнять (сказать: бы упали друг другу в объятия” было бы не в серовском стиле), и на этом все было бы покончено. Ведь как раз с косвенным виновником всей этой драки — с Левушкой Бакстом я уже успел помириться, поняв, что в данном случае он ничего дурного против меня не замышлял и скорее думал сделать мне одолжение.
Как характерно, что стоит меня навести на эту злополучную тему, как я становлюсь особенно словоохотливым. Меня нудит “объясниться”. Заноза в сердце напоминает о себе, и хочется ее вытащить.
Обнимаю Вас, еще благодарю и остаюсь душевно преданный Вам
Александр Бенуа, Париж
Р. S. И. С. Гурвич уже который день занят своим письмом к Вам. Ему чрезвычайно хочется быть Вам полезным.
12 — 14 июня 1959 г.
Дорогой и милый Илья Самойлович!
Теперь, наконец, я знаю, как Вы выглядите: Ида Марковна Шагал показала нам снятые с Вас диапозитивы (в Коломенском). Представлял я Вас почему-то совершенно иным, но столь же симпатичным! Особенно неожиданным оказалось для меня нечто “приветливо-ироническое” в выражении лица, а также вся Ваша фигура. Жаль, что я не обладаю подобным же Вашим изображением! Ну, авось Вы соберетесь и пришлете мне таковой (столь же удачный), и я включу его в свою “Семейную хронику”. В то же время, набравшись смелости, дерзаю просить Вас прислать мне фотографию с принадлежащего Вам рисунка Репина, представляющего моего папу.
Данное Вами поручение Иде Марковне она исполнила со свойственными ей усердием и настойчивостью. Результатом явилось то, что я наконец вскрыл свою рукопись (воспоминаний, т. IV) и выискал в ней те места, в которых говорится о Серове. К сожалению, не так их много, и вовсе они не так значительны, как хотелось бы. Думается, что в дневниках нашлось бы больше. Но где мои дневники? Сохранил ли их Степан Петрович или почему-либо счел нужным их уничтожить?
Что же касается до северного путешествия Коровина и Серова, то у меня никаких особых сведений не имеется. В то время, во время самой экспедиции, я еще не был знаком ни с тем, ни с другим и лишь мог на выставках любоваться их работами. Особенно восхитили меня те панно Коровина, что украшали стены русского кустарного отдела на Всемирной парижской выставке 1900 г. Это мое восхищение нашло себе отражение и в моей “Истории русской живописи XIX в.”, и в “Мире искусства” — при первой возможности я поместил снимки с этих панно в нашем журнале. Но еще раз напоминаю Вам, дорогой Илья Самойлович, что все, что я пишу, я цитирую по памяти и потому не могу поручиться за полную достоверность всех сообщаемых сведений.
Я очень был обрадован получением снимка с моего акварельного этюда, изображающего Костю Сомова у нас на даче (второе мартышкинское лето — 1896 год) за работой. Считаю этот набросок (и подобный же, который у меня здесь) за наиболее удачные работы того лета, сыгравшего в художественном развитии нас обоих (до нашего поселения в Париже, 1896 — 1899) решающую и благотворную роль. Обрадован был и Эрнст, увидав снимок с наброска сангиной, сделанного с него, тогда еще совсем юного, Серебряковой в ту эпоху, когда и он, Эрнст, и его друг Д. Д. Бушей поселились (в целях безболезненного уплотнения) в нашем родительском доме, в бывшей квартире наших родителей, часть которой с 1920 г. занимала перебравшаяся из Харькова моя сестра Е. H. Лансере вместе со своими детьми, в том числе и с Зиной Серебряковой. Огромное спасибо и от моего и от его имени.
А теперь довольно. Остаюсь душевно Вам преданный
Александр Бенуа
P. S. Иду Марковну Вы совсем покорили своей отзывчивостью, любезностью и т. д. и т. д. Судя по ее рассказам, Вы действительно чудесный человек, и я горжусь тем, что у меня с Вами завязалась такая эпистолярного порядка дружба.
Р. S. Еще раз благодарю за выписки — особенно за некролог Серова.
Париж.
9 октября 1959 г.
…Теперь о Серове. Вы предлагаете составить из разных моих кусочков одно целое и спрашиваете, не следует ли включить в эту “композицию” и тот некролог Серова, который был написан мной сразу под неожиданным впечатлением от смерти друга. Отвечаю: разумеется, так и следует сделать, и это уже потому, что лучше и “по-новому” всего того, что я тогда высказал, теперь мне не сказать — слишком все тогдашнее “закатилось за горизонт моего осознания”... Что же касается до какой-либо статьи, которая “могла быть написана по поводу выставки Серова в 1914 г., то Ваше предположение, что я вообще такой статьи не писал, совершенно соответствует истине. Я вообще совсем тогда запустил свои обязанности в редакции и почти все время отсутствовал из Петербурга, так как был всецело поглощен работой для Художественного театра (готовилась постановка “Хозяйки гостиницы”) и для предстоявшего нашего “Сезона” в Париже (я готовил “Соловья” Стравинского и т. д.), с трудом уделяя некоторые часы на продолжение своей Истории живописи...
Париж.
11 — 16 января 1960 г.
Перечитав статейку, подписанную Николаев” в “Мире искусства” за 1900 г., могу с полной уверенностью подтвердить Вашу догадку, что это мое изделие. В том же номере имеются еще две мои заметки, подписанные Б. Вениаминов. [Такой псевдоним получился из того, что в юности меня в обществе многие называли Benjamin de la famille”, так как, действительно, я был младшим членом нашего многочисленного семейства. (Прим. А. Н. Бенуа.).]
Разумеется, было бы любопытно прочесть то, что я измышлял в в 1909 — 1912 годах (а также в московском “Еженедельнике” около того же времени), но едва ли это может пригодиться для “моей статьи о Серове”, так как я вообще не чувствую себя в состоянии написать эту статью, да и вообще нечто ответственное. Еще раз повторяю, слишком многое в моей памяти затоплено (или заросло сорными травами), а тут еще и то обстоятельство, что у меня здесь нет никаких “материалов” — ведь все то, что я собирал и что должно было бы со временем послужить мне пособием для составления каких-то “грандиозных” записок, осталось на родине и многое из этого попало (кажется) в Русский музей — вероятно, в довольно хаотическом виде. Лишь я сам мог бы разобраться во всей этой разнохарактерной массе нужного и ненужного, ценного и вздорного. Ох, до чего я подчас на себя зол за то, что я слишком небрежно обратился со всем этим имуществом! Что же касается желательных Вам выписок из моих балетных воспоминаний в их оригинальном изложении (по-русски), то я при сем прилагаю наиболее значительную из них, и Вы сможете ее целиком использовать — в виде цитаты.
Париж.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: