Письма к Добычиной
Краткая справка о Надежде Евсеевне Добычиной
Добычина Надежда Евсеевна (1884-19-49) — первая российская профессиональная галерейщица. Занималась экспонированием и продажей произведений изобразительного искусства. В Художественном бюро Н. Е. Добычиной в 1913 г. работала Студия В. Э. Мейерхольда.
10 января 1924 г.
Новым годом и новым счастьем!!!
Дорогая и милая Надежда Евсеевна!
Только что вернулись с Matinee [Утренник (франц.).], на которой были впервые показаны “Филемон и Бавкида”, очаровательнейшая опера Гуно (в моей постановке), и во второй раз шел балет Пуленка (юного французского композитора) “Les biches” (франц.).], чрезвычайно меня пленяющий. Голова моя полна звуков, и я чувствую даже известное опьянение, очень близкое к тому, которое порождает вино... Вообще хоть и ругаем мы космополитическое испошленное Монте-Карло, это гнездо того, что в капитализме есть самого отвратного, но если взглянуть на вещи иначе и вовсе не обращать внимания на чрезмерно богатые отели, на гнусность рулетки, если совсем уйти в творящуюся здесь художественную работу, то придется признать, что я переживаю сейчас весьма замечательный период, ибо не выхожу из творчества и не переставая купаюсь в мире звуков и рождаемых ими образов... И все это среди как-никак волшебной природы, которую при желании можно как-то для себя отделить от всей той гнусности, которая здесь понастроена...
Пишу, а в открытое окно вижу, как на глубоком синем небе сверкает серп нового месяца и слышу, как плещет море о скалы... Сегодня и вчера несколько похолодало (и слава богу, ибо мы обливались пoтом и приходилось два раза на дню менять белье!) и выпал снег на высоких, подошедших к морю горах. Когда это освещено солнцем, когда тени от туч плывут по этим гигантским камням, то хочется плакать от восторга. И тогда становится грустно, что через десять дней придется покинуть эту красоту... Да в сущности мы должны были уже уехать третьего дня, но Дягилев заставляет меня режиссировать еще одну оперу (последнюю из данных им новинок) — “L'education manquee” Chabrier [“Неудавшееся воспитание” Шабрие (франц.).], и я сдался. Но как только это пройдет, так мы трогаемся в обратный путь с небольшой остановкой в Париже и еще меньшей в Брюсселе, и таким образом можем рассчитывать на то, что числа 1 февраля мы будем в Питере и будем обнимать всех наших дорогих — Вас в том числе! <…>
Монте-Карло
25 августа 1924 г.
Дорогой друг, Надежда Евсеевна,
Ну вот мы и в Париже. Вы, вероятно, радуетесь за нас и даже, может быть, восклицаете: ах, как я им завидую! Но, дорогая, мне во всяком случае Вы не должны завидовать. Мое самочувствие моральное неважное, и я не могу отделаться от ощущения, что я здесь по какому-то принуждению! Дать бы мне возможность жить дома, в своей настоящей атмосфере, и я, разумеется, сейчас же отказался бы от всех здешних соблазнов и помчался бы назад в матушку Россию, которую, странное дело, я только недавно, на склоне жизни и после всех горьких испытаний последних лет действительно признал за матушку, за родимый и нежно любимый край. Как это могло случиться, не знаю, но факт налицо — я сейчас чувствую себя несравненно более русским (без привкуса национализма), нежели прежде. Я ее полюбил “черненькой”, тогда как раньше, когда всякий ее любил “беленькой”, она во многих отношениях меня отталкивала. Играет здесь роль и то, что здешнее мне сейчас не так уж по нутру. Что говорить, внешняя декорация осталась без особенных изменений, а жизнь во многих отношениях стала еще удобнее и налаженнее. Но вот люди, атмосфера, ими создаваемая, — эта странная смесь пережитков чего-то очень тонкого, душистого, “внутреннего” с той грубостью и той плоскостью, которые присущи нашему времени, — вот это застилает от моего внимания многое из того, что должно было бы меня пленять. Или это просто старость? Желание уползти в свою берлогу? На такие вопросы не нахожу в сердце определенных ответов; знаю и повторяю только одно, дали бы мне возможность без надрыва, без тревоги, без всяких столь недостойных страхов и забот, дали бы мне прилично жить дома и отдаваться систематично, спокойно моему подлинному делу, и я, разумеется, не задумываясь променял бы все “заграницы” на родную обстановку! <...>
Теперь несколько слов о том, как мы живем. Живем мы временно в том же отеле, в котором жили последние недели семь месяцев назад: Hotel Savoy, rue de Vaugirard 32. Очаровательный квартал, милый старинный дом, комнаты сохранили частью деревянную отделку XVIII века — ни дать, ни взять сценарий для какой-нибудь фильмы из времен французской революции... Но, к сожалению, темновато и дороговато, что и заставляет нас искать себе другое пристанище. Однако квартирный кризис здесь все еще (несмотря на усиленную стройку) не изжит, и пока поиски Анны Карловны не увенчались успехом.
Ида Рубинштейн вчера укатила на греческие острова, но я успел с ней обо всем договориться. Увы, идет не инсценировка романа Достоевского, а пьеса некоего <...> журналиста де Нозьера — [“Идиот” (франц.).], в которой этот легкомысленный нахал попытался разжевать соотечественникам интригу и на французский лад preciser les caracteres [Уточнить характеры (франц.).]. Сначала я был так поражен, что хотел вовсе отказаться от участия в таком позоре. Но, вспомнив, что делаются вещи и похуже (например, то, что сделал с Мейерхольд), и ощущая невозможность пойти на попятный, я покорился гнусности судьбы и лишь потребовал кое-каких сокращений, уклонившись вовсе от режиссуры.
Кроме того, за мной уже ухаживает Балиев, и весьма возможно, что я что-нибудь для него сделаю. Реальные выводы, однако, из всего этого, покамест, не слишком блестящи. Аванса, полученного от Иды, едва хватит до ее возвращения, и нам отсюда ничего пока не удастся выслать нашим. Поэтому умоляю Вас, дорогая, сделать все от Вас зависящее, чтобы продать остающиеся акварели и снабдить этими деньгами несчастных Черкесонов, за которых наши родительские сердца чрезвычайно болеют! <...>
Альбер живет у Черепниных в Шавиле. Поместительная и даже изящная дача, но вся в тени, без всяких видов на простор, так что он, бедненький, ничего от здешнего и не видит. Здоровье его не лучше, да и какое может быть улучшение при этом холоде и постоянных (все лето!) дождях!!... Я его нашел скорее осунувшимся и с каким-то покорным выражением лица, что так ужасно не характере” всей его личности и что так контрастирует со всей “праздничностью” его жизни.
Владимир Николаевич Вам нежно кланяется и специально благодарит Вас, за то, что Вы нас сюда “выпроводили”. Дела его не очень благополучны, но при его фантазиях и благодеяниях на все стороны это и не мудрено. С Румановым он не видится, но все же поищет способы как бы устроить интересующее Вас дело <...>
Остаюсь преданный Вам Александр Б.
Ничего не имею против, чтоб Вы прочли кое-какие пассажи этого письма кому Вы сочтете нужным.
Париж.
5 апреля 1926 г.
Дорогая Надежда Евсеевна.
Что же это такое? Где Вы застряли? А я еще надеялся с Вами до отъезда здесь погулять и как следует показать Вам Версаль. Теперь же выйдет, пожалуй, что мы погуляем вместе по Петергофу или Павловску. Мы собираемся отсюда числа 22-го и будем на берегах Невы около 28-го. Надеемся Вас застать в самом лучшем здоровии и в отличном настроении. Мне удалось “расчистить” настолько мои здешние дела, что во всяком случае до осени я смогу провести время дома, а Вы себе представить не можете, как я об этом соскучился, как мне это необходимо. Главное, мой дорогой Эрмитаж и прочие музеи. Так хочется, между прочим, реализовать мой план устройства в Гатчине “исторического” музея!... Да и кроме того проектов и намерений хоть отбавляй! Но об этом всем при личном свидании, которое, если ничто не помешает, может состояться через три недели самое позднее.
Сердечный привет всем Вашим. Вас обнимаю и желаю всего лучшего.
Преданный Вам
Александр Бенуа
Париж, 1926 год
Читайте также...
Партнёрские ссылки:

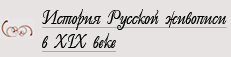
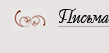
.jpg)