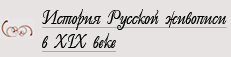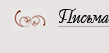Письма к Савинову
Краткая справка об Алексее Николаевиче Савиновом
Алексей Николаевич Савинов (1906-1976) — известный историк искусства, почти 17 лет возглавлявший отдел живописи XVIII-первой половины XIX века Русского музея.
18 августа 1956 г.
…От всей души, во-первых, благодарю Вас, что вспомнили обо мне и вспомнили в столь лестных для меня выражениях. Да и вообще я увидал из Вашего письма, что меня не забыли на родине и даже имеются люди, которые ценят мое искусство...
Отвечу вкратце на Ваши вопросы. Да, несмотря на весьма преклонный возраст (86 лет), я, слава богу, продолжаю работать и как раз в данный момент занят “оформлением” (как у вас теперь говорится) оперы Пуччини “Манон Леско” — для миланской Скалы. Это чуть ли не десятая постановка, которую я создаю для этого знаменитого театра. Вообще же я почти исключительно занят театром, точнее, лишь театр дает мне необходимые средства .
Ах, как хотелось бы не только читать книги про те чудесные вещи, которые окружают Вас, и Вы имеете возможность ежечасно изучать и ими наслаждаться, — но самому пройтись по залам чудесного Русского музея и поглядеть на Левицкого, на того же Венецианова, на Кипренского, на Александра Иванова, на Федотова, на Репина, а также на многих более скромных, но сколь милых художников! Воображаю, сколько прекрасных новых поступлений прибавилось с тех пор, как я (в 1926 г.) в последний раз обозревал эти торжественные залы, не имеющие здесь ничего подобного. А как мне недостает “моего Эрмитажа”!...
Париж.
12 октября 1956 г.
…С начала августа был совершенно поглощен театральной работой. Пришлось кроме четырех декораций нарисовать более ста костюмов и немало всякой бутафории. Моментами, ввиду близости срока, меня брала паника...
Во всей этой спешке и во всех этих нервах большим утешением мне послужило как раз чтение и разглядывание Вашей превосходной книги о Венецианове. Я был счастлив, что наконец владею таким обстоятельным трудом, посвященным одному из моих любимых художников, и могу вдоволь изучать всё, что Вы нашли нужным сообщить о нашем милом, о “святом” Алексее Гавриловиче! Когда-то уже в той маленькой главе о русской живописи, написанной для немецкого издания книги Р. Мутера (1893) (“История живописи XIX века”), я попробовал уделить Венецианову (которого я тогда как бы “открыл”) значительное место; далее, в русском издании Мутера (в 1902 г.) я эту же тему постарался еще более развить, но при всем моем энтузиазме и к крайнему своему сожалению у меня не хватило материалов для более полного ознакомления с жизнью и творчеством мастера… Такие материалы просто не были доступны, или я тогда не сумел их найти. Теперь же Вам удалось создать настоящий памятник, который, мне всегда казалось, заслуживают и личность и искусство автора и “Утро помещицы”, и ознакомление с ним явилось для меня великим утешением, за что я приношу Вам ныне свою душевную благодарность!
Однако, чтобы не показаться Вам каким-то однобоким и голословным льстецом, я решаюсь привести тут же некоторые оговорки и “сожаления”. При всей столь глубокой компетенции по данному предмету я не могу найти что-либо, что требовало бы поправок. Наибольшие же “сожаления” касаются внешних сторон книги: не вполне удовлетворительно качество красочных таблиц (что, впрочем, не помешало тому, что и они доставили мне удовольствие, более ярко напомнив мне некоторые излюбленные мной картины), а также известная тусклость черных репродукций. Увы, подобные дефекты общи многим ценнейшим изданиям, появившимся за последние годы, и я просто не могу понять, почему это так, тогда как в наше время техника как черных, так и цветных воспроизведений достигла у нас почти полного совершенства. Жалею я еще о том, что в Вашей книге не всегда показаны происхождение и местонахождение вещей, отсутствуют также сведения о происхождении самого Венецианова. Все это, впрочем, неважно и нисколько не умаляет значение книги в целом. Но я не хочу скрыть от Вас и то, что я местами не согласен с Вами более по существу. Это не касается отдельных мнений, а скорее чего-то, что является как бы оценкой личности художника в целом. И вот, каким бы чудесным художником Венецианов ни был, все же он не был изолирован от общего течения искусства — от того, что творилось в других странах, от тех идей, что “витали тогда в европейском воздухе”. В частности я не согласен с Вашим преуменьшением того значения, которое получило для Венецианова появление в Петербурге картины Гране. [Картина Франсуа Гране “Внутренний вид капуцинского монастыря в Риме” находится в Эрмитаже.] Вы даже не согласны с разительностью того удара, который он тогда испытал и который предопределил все его дальнейшее творчество!
Вы скажете, что во мне говорит заядлый неисправимый “западник”, но это не так. Действительно, я всегда был склонен глядеть в то окошко, что прорубил Петр I и через которое так интересно и занимательно любоваться всей стелющейся перед взором мировой панорамой! Верно и то, что об этом окошке я не уставал напоминать, приглашая в него поглядеть и получить от того великое удовольствие и пользу. Однако это не значило, чтоб я преуменьшал значение того, что находилось в более близком контакте со мной, что меня окружало, чем я дышал. Напротив, я испытывал радость особой силы, когда я открывал вокруг себя примеры однородные с тем, что было там — окошечком”. Я назвал только что Петра, но я с таким же основанием назвал бы в качестве своего идеала обожаемого мной Пушкина. При всем несомненном и горячем патриотизме Александр Сергеевич не замыкался в нем, но с великим вниманием следил за всем, что появлялось замечательного где бы то ни было. И вовсе он не считал нужным это скрывать!..
И вот как раз в Венецианове, при всем его любовном знании русского человека, при всем его проникновенном понимании русского крестьянина, меня особенно трогает отсутствие какого-либо “замыкания в национальной гордости”. Чем-то как раз особенно характерным и пленительным представляется в нем (пусть наивно выраженное) преклонение перед Гране или его же восторженное описание картины Крюгера. Если бы можно было снабжать художественные произведения какой-либо “пробой”, то, пожалуй, чистого золота оказалось бы больше в Венецианове, нежели у тех европейских знаменитостей, но как красиво, что сам он в своей умилительной скромности этого не сознавал, что он преклонялся перед своими зарубежными собратиями, славословил их!...
Париж. 1956 год.
16 октября 1957 г.
...Еще мне было приятно прочесть в Вашем письме — о Ле Корбюзье и его засилии (угрожающем всему миру), — приятно было узнать, что эта проказа еще не привилась русской архитектуре! Неужто наши зодчие устояли перед таким соблазном? А что вот, как будто, проходит мания колонн и всяких “излишеств” — это к добру. Надо найти иные способы придавать зданиям благородную монументальность. Почему бы не вдохновляться архитектурой Петровской эпохи? — в ней столько “добротного толка”, а величие достигается иными приемами, нежели те, что были привычными у Растрелли, у Захарова, у Росси..
Памятник Пушкину в общем мне нравится, а голова и совсем удачна; лепка с прямо-таки “классической” моделировкой. Критикуют тут только несколько слишком театральный жест руки, точно на что-то указующей. Этот жест объясняется исканием автором памятника какого-либо разнообразия “композиционного равновесия” то будет стоять такой господин в сюртуке, руки по швам, уж больно шаблонно”). Мне же кажется, что это если не особенно тяжелая, то все же ошибка. Авось в окончательной редакции найдется что-либо более удачное, “естественное”. А каков же пьедестал?..
Париж.
11 — 12 апреля 1958 г.
…Уж очень близко мне кажется все, что Вы сообщаете о загородных дворцах и об их восстановлении. Уж очень радуется мое сердце, что их бесподобная прелесть будет и впредь утешать, как она меня утешала и восхищала. В сущности, самые сильные за всю мою жизнь впечатления я получил от них и в них; и даже никакие Версали не могут сравниться с петергофскими, павловскими и т. д. ощущениями. Они в чем-то самом важном предопределили мою деятельность, и я до сих пор оплакиваю как нечто самое досадное то, что из-за самого дурацкого инцидента (в 1903 г.) я должен был бросить созданное мной дело — издание “Художественных сокровищ России”, в значительной степени посвященное именно этим сокровищам. На каком-то культе Петергофа и Павловска образовался мой личный вкус, как чисто художественного порядка, так и “исторического” (“исторический вкус” — а почему бы нет?) и даже, ну скажем, “моральный”.
...Ох, как хотелось бы пройтись по залам Павловского дворца!
...Теперь насчет Версаля. Работал я в Версале (особенно в садах) очень много, работал бы и ныне, однако всегда оставался вне его музейной жизни, и никакой службы там (ни в другом месте) не нес. Еще пока были там милый старичок M-r de Nolhac и заменивший его M-r Perate, я имел хоть с ними лично довольно близкое общение; но с их уходом (из данной службы, а затем вообще из жизни) у меня никаких связей с хранительским составом Версаля не сохранилось, и, бывая там (во дворце), я чувствую себя чужим, “туристом”. Здесь вообще трудно водить знакомство с людьми, в каком бы то ни было смысле официальными. Спесь ли “столичная”, блазированность? Уж очень Париж проходной двор, рынок, мировой караван-сарай, уж очень густо течет через него непрерывный поток любопытных, пожаловавших со всех концов мира. ...Вот и приходится ответить на Ваш вопрос о моей музейной жизни так: никакого отношения к здешней музейной жизни я не имею.
<...> Частным же образом я, разумеется, продолжаю быть ненасытным музейщиком, хорошо знаю содержание бесчисленных здешних собраний и часто их посещаю. Посещаю с усердием и неостывшим интересом все устраиваемые в Париже, иногда и очень значительные, исторические выставки, а также аукционы, через которые проходят несметные богатства.
Париж.
8 июля 1958 г.
Затем порадовал меня и бюстик. Да, этот милый шустрый мальчишка — я — увы, ныне согбенный, безволосый и очень усталый старец. — Лепил же меня Лансере, т. е. Евгений Александрович Лансере, скульптор, тогда уже пользовавшийся исключительным успехом и года за полтора ставший моим зятем, женившись на моей сестре Катеньке. Ему было уже под тридцать, а мне всего пять с половиной. Живо помню самые сеансы, чтоб как-нибудь меня угомонить, они происходили после вечернего чая и тогда, когда я был раздет и уложен в свою кроватку. И все же бедный Женя не раз терял терпение из-за моей подвижности. Тем не менее, работа удалась вполне и восковой бюст был мастерски отлит лучшим тогдашним литейщиком в России — Шопеном <…>
<…> А вот где есть чем полюбоваться, чему поучиться, чем просветиться — так в художественном отделе Брюссельской Экспо. Сужу только по богато изданному каталогу (и по отзыву побывавших). Она — выставка — почти целиком предоставлена триумфу абстракции и всей близкой к тому ерунде.
Это форменный сумасшедший дом, ныне претендующий на некое святилище Аполлона. Только бы эта страшная зараза не перекинулась за пределы нашей родины (или она уже успела переболеть этим недугом еще в 1910 — 1920-х годах?). Пока, как будто, до этого далеко, и русский отдел, судя по каталогу, если и не блещет чем-либо гениальным — все же он единственный, на котором показаны вещи, могущие привлечь внимание (среди них и “Агония Гитлера” Кукрыниксов).
Куда это безумие устремляется, во что это обернется? Мне почему-то все более становится боязно за искусство славного прошлого. Безумцы овладевшие позициями (Венецианская Biennale такая же ерундовая, как вот эта Брюссельская выставка), так дела не оставят. Провозгласив Кандинского первой величиной, они естественно должны будут пойти дальше и провозгласить Рафаэля и Рембрандта за сущую дрянь, а оттуда один шаг до погрома музеев и до аутодафе произведений. Уже голоса, призывающие к тому, уже слышатся (а, например, весь XIX век после Делакруа объявлен омерзительной “mauvaise peinture” [Скверной живописью (франц.).]) <…>
Париж.
17 декабря 1958 г.
Не нахожу слов — это отнюдь не фраза, — чтобы поблагодарить за новый, столь ценный дар! — прекрасно изданный каталог в двух томах нашего чудесного Эрмитажа. С тех пор, как он (каталог) получен, — шестой день и я и мой друг С. Р. Эрнст сидим, погруженные в его изучение. И особенно я тронут теми словами, что посвящены мне и содержат справедливую оценку моей деятельности в этом прекраснейшем и богатейшем из музеев мира. Читаю и (иногда) “учусь”, разглядываю картинки и наслаждаюсь…
Париж.
22 — 24 марта 1959 г.
Дорогой Алексей Николаевич!
Спасибо еще и еще за ВСЕ. На сей раз специально — за аппетитную брошюрку: “Головин и Шаляпин”. Если увидите автора — Альмедингена, передавайте ему мой привет. Очень хотел бы, чтобы мой привет дошел до Г. С. Верейского. Если случается Вам его видеть, будьте добры, скажите ему, что я не устаю любоваться теми двумя большими рисунками (Петергоф и Парголово), которые он мне подарил. Я бы написал прямо ему, я не знаю его адреса (да и позабыл старый: линию, номер дома).
Теперь отвечу на Ваш второй вопрос: подошла ли роль Настасьи Филипповны Иде Рубинштейн? Нет, совсем не подошла. Но вообще бедная Ида, — ей по-настоящему подошли только две роли, в которых она пленила tout Paris [Весь Париж (франц.).]: роль Клеопатры (в одноименном балете, сильно переиначенном мной, Фокиным и Дягилевым из “Египетских ночей” Аренского) и роль Шехерезады. Там она не говорила, там ей надлежало только двигаться, ходить, делать несколько немудреных па, будучи в обеих ролях чудесно одетой и “убранной” Бакстом. Во всех же других выступлениях она, бедняжка, была вовсе не на высоте поставленных задач. Мне несколько совестно так отзываться о моей многолетней меценатке (с 1923 по 1939 г.), дававшей мне средства для существования и, что более ценно, дававшей мне возможность создавать те или иные сценические оформления. Однако “Amicus Plato” и т. д. [“Платон мне друг (но истина дороже)” — латинская поговорка.]
Вся беда была в том, что она во что бы то ни стало желала осуществить какие-то мечты и заветы юности и сделаться трагической актрисой и балетной артисткой, соперничая с первейшими звездами! На самом деле она так и осталась любительницей, и ей не было дано даже достичь мастерства кордебалетных плясуний. Несколько удачнее она справилась с ролью дамы с камелиями. Напротив, роль Настасьи Филипповны в пьесе Нозьера и Бинштока, выкроенной из “Идиота”, ничего не могла ей дать в смысле естественности, отойти от любительства. Вот Вам и ответ на Ваш вопрос. Но что касается постановок ее спектаклей, то тут она не жалела средств (на нынешние деньги эти спектакли стоили бы миллиарды), и Бакст, а после него я создали для нее ряд и очень эффектных зрелищ, среди коих следует выделить “Св. Себастьяна” и “Елену Спартанскую” Бакста и мои постановки колоссальной мистерии “L'Imperatrice aux Rochers”, “Diane de Poitiers”, Bolero”, “Les Noces de Psyche”, Bienaimee”, “Notturno”. [“Императрица скал”, “Диана де Пуатье”, “Болеро”, “Свадьба Психеи”, “Возлюбленная”, “Ноктюрн”.]
К сожалению, все это прибавило к моим лаврам”, ибо, несмотря на (вялые) одобрения критики, на (умеренные) аплодисменты публики, произведения эти по милости “отсутствия центрального лица” (героини) проходили в атмосфере довольно прохладной, и все, что составляло блеск и роскошь спектакля, отправлялось почти сразу в склады, где декорации, костюмы и реквизиты тихонечко разлагались, уже никогда не видя больше света рампы.
Бедная, бедная честолюбивая, щедрая, героически настроенная Ида! Где-то она теперь, что с ней? Говорят, она живет в Англии и всецело отдалась благотворительности. С парижского горизонта она исчезла бесследно. Даже ее нарядный особняк на Place des Etats Unis [Площадь Объединенных Наций (франц.).] продан и срыт до основания. Что касается меня, то я храню о ней память, в которой доминируют чувства признательности и почтения, но совсем отсутствуют восторг, любование (admiration). Характерно, что ни один образ, созданный ею, не живет в моей памяти, — вроде того, как живут образы, созданные Цукки, Павловой, Дузе, Станиславским, Давыдовым и т. д. ... Но да останется здесь сказанное строго между нами или, если найдете нужным, “сдайте в архив”. Но я не желал бы, чтобы эти строки стали общественным достоянием, чтоб каким-либо путем они дошли бы до самой Иды и явились бы еще одной чашей горечи, отравляющей ее годы старости. Таких чаш ей, вероятно, пришлось испить немало, и, пожалуй, самой горькой была та чаша самосознания, но, возможно, что она и до конца не сознавала своей ошибки и тешила себя мыслью, что она “великая артистка”.
Однако довольно этого “доноса”. Вы несомненно устали его читать.
Обнимаю Вас, милый Алексей Николаевич, и остаюсь душевно Вам преданный
Александр Бенуа, Париж
15 апреля 1959 г.
Особенно меня порадовали два воспроизведения в красках того художника, которого я научился ныне, на старости лет, особенно ценить. Говорю о Сороке. Что это за прелесть!
И как это бьет все благоглупости, что создаются на всем свете во имя “будущего”, “передовитости” и т. д. Какая простота! Но и какое мастерство. Я особенно склонен ценить этого венециановца, что сам всегда пытался, “сидя на натуре”, столь же бесхитростно и точно передавать то, что видел перед собой. И как бы Сорока понравился бы другу Сомову, который особенно в своих ранних работах (в самых бесхитростных Мартышкинских и Литовских мотивах) умел передать нашу, пусть чахлую, но столь трогательную природу! Не могу тут же не пожалеть, что впоследствии Сомов совсем отошел от такого “правдолюбия” и, польщенный успехом, прельщенный возросшим заработком, принялся десятками изготовлять дурашливые картинки с Арлекинами, Пьеро, фейерверками и т. д. И сам я немало погрешил в этом роде, но мне это было, пожалуй, простительнее, ибо я не обладал той степенью тонкости и тем даром красок, которыми обладал друг Костя! Ныне Сорока (а рядом с ним Алексеев, а над ними всеми бесконечно мной чтимый Алексей Гаврилович) остаются моими любимцами.
Париж.
17 апреля 1959 г.
…Лишь на прошлой неделе пришла к благополучному окончанию новая театральная работа — постановка балета “Петрушка, представленного в лондонском “Covent-Garden'e”, а все последнее время я был до одури поглощен ею. Теперь я дышу свободнее, но уже впряжен в другое, совершенно подобное дело. Лично мне трудно судить, что на сей раз получилось (в Лондон я не смог отправиться), но отзывы прессы все без исключения весьма одобрительны, а очевидцы рассказывают о настоящем восторге публики. Таким образом, я как будто не посрамил и на сей раз Российского Искусства, и теперь англичане ломятся в театр, чтоб поглазеть на сочиненную мной кукольную трагедию, на пляски кормилиц, кучеров, ряженых, цыган, а также чтоб погулять по Адмиралтейской площади средь балаганов, качелей, катальных гор и других диковин нашей широкой масленицы <…>
Должен признаться, что, лишенный здесь видеть картины русской школы, я по ним соскучился. И это тем более, что здешние мои французские или английские друзья решительно не могут понять, в чем значение и прелесть нашего художественного прошлого. Разумеется, играет при этом роль модная эстетика. Она до того поработила (и развратила) здешних людей (и даже самых тонких среди них), что и в своем собственном художестве они разучились разбираться. Вообще же мне кажется, что так называемые передовые люди потеряли способность созерцать картины и тем паче в них всматриваться и вдумываться <…>
Париж.
16 июня 1959 г.
Огромное спасибо за последнюю присылку — за партию отличных фотографий с картин Сороки и Алексеева (как интересно ознакомиться со всеми подробностями этих трогательных в своей внимательной правдивости картин!), а также за, не без роскоши изданную, книгу дней”. Ее я прочел буквально не отрываясь. Не все в тексте я бы одобрил. Самое привлечение автором “всей истории живописи”, как бы воспользовавшимся случаем для просветительных дидактических целей (издана книга в “Детгизе”), представляется мне натяжкой и чем-то уж очень наивным, но зато большое спасибо автору и за рассказ про дикое разрушение всего милого приветливого и уютного города Дрездена и особенно за живое, талантливое сообщение о жуткой операции (прямо — точно читаешь захватывающий полицейский роман или роман какого-либо романтика) нахождения и поистине чудесного спасения ценнейших художественных сокровищ, погребенных в ужасных условиях. Но как не проклинать всю гитлеровщину, когда узнаешь (сказано в “Семи Днях” “мимоходом”, это не входило в задачу автора), что в Берлине сожжено несколько сотен картин Берлинского музея и почти все знаменитые иллюстрации Сандро Боттичелли к Данте (вероятно, все бесценные сокровища Kupferstichkabinet'a). Среди картин (точного списка не знаю) находились такие архишедевры, как “Триумф Пана” (правильного названия не помню) Луки Синьорелли, большой алтарный образ Козимо Туры, “Завтрак в Сан-Суси” и “Литейный завод” Менцеля, масса картин немецких романтиков, Беклина и т. д. и т. д. Вот такие поступки рядом <…> с кривляньем сумасшедшего Дали (ему надоело издеваться над “Angelus'ом” Милле и над “Кружевницей” Вермеера; теперь он обратился к самой Джоконде, приделав ей (в репродукции) свои остроконечные усы) — вот такие поступки, повторяю, вселяют в меня ужас, что, может быть, существование всего нами любимейшего и для человечества нужнейшего тоже обречено на близкую гибель от рук диких или сатанинских вандалов! Какой ужас!! Только бы не дожить до этого...
Париж.
27 июля 1959 г.
Дорогой, милый Алексей Николаевич!
Уже дня четыре как прибыла в полной сохранности Ваша посылка, доставившая мне много удовольствия и наполнившая меня чувством сердечной благодарности. Спасибо! Спасибо!! Второй экземпляр Сообщений Русского музея я передал С. Р. Эрнсту, что и его чрезвычайно обрадовало.
Более всего мне доставили удовольствие обе фотографии с портрета (отнюдь, на мой взгляд, не засушенного, а необычайно мастерски исполненного) Зубовского карлика. Теперь мне кажется, точно я был лично знаком с этим замечательным в своем курьезном роде человечком. Его записки я читал с большим интересом (тем более, что они снабжены подробными комментариями), а теперь я узнал, как выглядела на самом деле эта крохотная, но вовсе недюжинная персона. [Слышал, что готовится издание этих записок, кажется, на русском языке. Когда выйдет (если выйдет), поспешу послать Вам. (Прим. А. Н. Бенуа.).]
Доставила мне особенное удовольствие отличная фотография с автопортрета Кипренского. И я и еще кое-кто из нашей компании были склонны считать этот превосходный портрет за работу какого-либо француза первых десятилетий XIX века, но вот, снова увидав этот портрет в отличном снимке, я предпочитаю в нем видеть работу Кипренского. Изображенное лицо — несомненно русский юноша и это несомненно автопортрет. Кто же мог создать подобный шедевр из мастеров русской школы той эпохи, кроме Ореста Кипренского? А тo, что этот портрет отличается от других его достоверных произведений, можно объяснить вообще некоторой “хамелеоничностью” всей его художественной натуры и той легкостью, с которой он переходил от одной манеры к другой, каждый раз вполне овладевая ею (вспомним только его “рубенсоподобный” портрет отца!). Весьма возможно, что и этот портрет написан Кипренским под особенно ярким впечатлением от какой-либо картины французской школы, случайно попавшей в Петербург. Впрочем, Эрнст полагает, что можно было бы найти и документальное подтверждение данной атрибуции. Не попал ли к Вам в музей архив милейшего Евгения Григорьевича Швартца? Если же попал, то, может быть, найдутся в нем и записи Томилова (от Томиловых по наследству достались все художественные ценности — Швартцу), касающиеся всех приобретений... Эрнст эти записи видел...<…>
Теперь о К. А. Коровине — о бедном-бедном “Косте”. Конец этого столь характерного русского человека на чужбине был весьма печален. Скончался он от сердечного припадка (он тяжело страдал сердцем), случившегося с ним вследствие ужаса, испуга, вызванного бомбежкой (осенью 1939 г.). За несколько месяцев до того он, все из-за того же ужаса, переехал куда-то в провинцию; но как раз, когда ему показалось, что опасность миновала, он вернулся в Париж, и чуть ли не в первую же ночь возобновились вопли сирены и послышались удары падающих бомб — на сей раз уже не немецких, а явившихся отстаивать Францию союзников. Вообще же существование Константина Алексеевича было омрачено безденежьем (говорят, он очень выпивал и проигрывал в азартной игре то, что зарабатывал, создавая картинки с “русскими сюжетами” — тройками, зимними деревенскими пейзажами и т. п.), а также семейным раздором: его сын (тоже художник —я не имею представления о его творчестве), мрачный и озлобленный калека (он попал под колеса трамвая и лишился ноги), покончил с собой. Остался внук, и мне обещали раздобыть его адрес от одной дамы, которая теперь в отсутствии, но должна вернуться в сентябре. Жили Коровины в очень неприглядной квартире в далеком квартале Porte de St Cloud. Там я раза два навестил Константина Алексеевича. В его рабочей комнате царил полный и “вовсе не живописный” беспорядок. Но сам К. А., несмотря на свою седую бороду, продолжал быть тем же красавцем, каким его знала и каким гордилась вся Москва...
Наконец, о “портрете гусара”, писанном Кипренским. “Ужасно хотелось бы”, чтоб изображенное, столь овеянное романтикой лицо изображало самого знаменитого воина-поэта Дениса Давыдова, но, говорят, не так, а перед нами двоюродный брат его Евграф Давыдов, который тоже был гусаром. Ох, уж эти мне атрибуции, переименования и т. д. и т. д., одолевающие все области Истории искусства. Кстати сказать, Эрнст (неисчерпаемый источник всяких знаний) утверждает, что когда-то бывшая в моем собрании “Белая лошадь с крестьянином в красной рубахе” писана не Кипренским (так окрестил ее Н. Н. Врангель — тогда как я был склонен видеть в этой неоконченной картине “нечто Шебуевское”), а Барбье (Barbier, Nicolas Alexandre 1789 — 1864), прелестный и несправедливо забытый французский мастер, живший одно время в России и Вам, вероятно, хорошо известный. Как Вы думаете? Кто автор этого произведения?
Пора кончать. Лишний раз далеко не блестящим образом ответил на заданные вопросы. Беда в том, что когда-то всякие сведения доходили до меня как-то “естественно” и мне не стоило никакого труда их узнавать и запоминать. Теперь же все как-то минует меня и я узнаю о всем случайно, а что узнаю, часто забываю. Вести же толковую, последовательную запись сейчас мне трудно. Очень меня деморализует и то, что на полпути застряло печатание моих Воспоминаний, нового же издателя, взамен лопнувшего Чеховского издательства, пока не находится... Кстати сказать, все собираюсь послать Вам те два томика, что появились (под самовольно данным издателями нелепым названием “Жизнь художника”), но я сомневаюсь, как это сделать вернее? Куда адресовать? По адресу Музея?
Обнимаю Вас, дорогой Алексей Николаевич. Еще и еще благодарю за всю Вашу любезность, за все Ваши хлопоты (специально — за “Карлика”) и остаюсь
душевно Вам преданный
Александр Бенуа, Париж.
22 сентября 1959 г.
На днях получил наконец из Лондона грязновой пробный экземпляр перевода моих Воспоминаний. Обещают начисто выпустить книгу к концу декабря. Но насколько же мне было бы отраднее, если бы нашелся издатель, который взялся бы издать (сначала по-русски) оставшиеся в рукописи остальные три части! Ужасно боюсь, как бы этот мой труд со всем обилием документации относительно весьма значительного периода нашей истории культуры и искусства не пропал бы совсем зря и бесповоротно... Обиднее всего то, что, не имея сразу к своим услугам издателя, я свои записи запустил и даже вовсе оставил, прекратив их в 1909 году. Таким образом, в этих записях нет ни о моем участии в Художественном театре, ни о моих работах историко-художественного характера (“Царское Село”, “История живописи” и т. д.), ни о сотрудничестве в газетах, ни о моей свободной художественной деятельности, ни о ближайшем участии в Дягилевских театральных представлениях, ни о ряде постановок для Иды Рубинштейн, ни о ряде постановок в Большом Драматическом театре... Сырого материала уйма, но ничего не закончено, не приведено в систематический порядок... Все из-за накопившейся за последние годы деморализации... Ужасно досадно!..
Париж.
9 декабря 1959 г.
Все, что мной когда-то, в доисторические времена, печаталось, рождалось в горячке, в гневе или же в “аффекте восторга”.
Однако, дабы скорее перейти на более мне свойственную конкретную манеру, начнем хотя бы с Перова. Действительно, мне он дорог. Если бы я узнал, что почему-либо погибли безвозвратно “Трапезная” или “Приезд гувернантки” или “Крестный ход”, я был бы очень и очень огорчен. Прибавлю еще чудесного “Бобыля” (кстати сказать, любимая вместе с “Учителем рисования” картинка Серова), нахожу немалые достоинства и в его исторических композициях в “Пугачеве”, в “Богословском споре”. Но вот можно ли делать вывод, что, признавая эти картины, я изменяю какому-то своему “основному вкусу”? Отнюдь нет. Мой фундаментный вкус требует в первую голову правду, искренность, убеждение и, обыкновенно на правдивости утвержденную, убедительность. Главной моей задачей в моей писательской деятельности было заразить людей моими восторгами, моим любованием (admiration — вполне соответствующего слова по-русски нет), и в то же время предостеречь моих слушателей или читателей от соблазна всего лживого, косного, претенциозного, пошлого или шарлатанистого. Мне казалось (и до сих пор кажется), что я от природы одарен способностью узнавать, различать то, что принято называть прекрасным, высокохудожественным. Я до этого чуток до чрезвычайности. Но это как раз не эстетство, вовсе не какое-то выискивание изюминок, пикантностей. Чуток я и до распознавания мастерства. Мастерство есть такое же “требование художественности” как и правдивость в изложении темы. Без мастерства нет искусства, нет прелести искусства, а в этой прелести, в этом прельщении все дело. Вот только как определить, что такое “мастерство”? Это не виртуозность, это отнюдь не какое-либо щегольство хлесткостью, но это и не “академическая” правильность <…> Вот тут меня и словит какой-нибудь зоил. Ага! Как же вы говорите, что вы не (в бранном смысле слова)? Думаю, что все же я не эстет, потому что и то, и другое мне дорого и то, что называется содержанием и то, что называется “исполнением”. И одно без другого не существует в тех произведениях, которые мне дороги, которые я считаю ценными для человечества! <…>
А не назвать ли поименно всех моих любимцев, или кумиров! Это, может быть, лучше объяснит, что я хочу сказать. Вот только риск, что такой список растянется в слишком большую длину. Следовало бы при этом назвать и художников пластики, и художников музыки. Это завело бы слишком далеко. Во всяком случае в этой массе, в этом подобии Парнаса окажутся и самые разные народности, и самые противоречивые мыслители, и русская икона, и картины Рембрандта и Рубенса, и статуи Рафаэля, и египетский сфинкс, и карикатуры Домье, и Бах, и Чайковский, и Бизе! <…>
Вот этот Парнас: Питер Брейгель, Микель Анджело, Хальс, Рафаэль, Тициан, Беато Анджелико, Рембрандт, Паоло Веронезе, Федотов, Леонардо, Менцель, Ватто, Хогарт, Пуссен, Домье, Ван-Эйк, Гойя, Перов, Буше, Серов, Гуго ван дер Гус, Делакруа, Репин, Веласкес, Дюрер, Лука Синьорелли, Ф. П. Толстой, Бернардо Белотто, Питер ван Хох, Гольбейн и т. д. и т. д.
Не скрою тут же от Вас, что меня так и подмывает того или иного выделить (“наградить орденом”), но я от этого воздержусь, ибо в данном случае вся гамма должна звучать одинаково отчетливо, все равно, какой бы октаве та или другая нота ни принадлежала. Не скрою и того, что хотелось бы еще вставить и те или иные “объяснения”, но и они здесь неуместны… Что же касается тех, коих я не люблю (иных за их серость, слабость, других за лживость иногда при большом таланте и мастерстве), то имя им легион…
На этом остановлюсь. Перечитывая это свое послание, мне очень хочется его разорвать, ибо все это уж очень примитивно, уж очень отходит от ныне принятой и просто обязательной манеры говорить об искусстве самым замысловатым языком.
1959 год, Париж.
1 — 2 февраля 1960 г.
Сообщаю по Вашему желанию некие комментарии к моим иллюстрациям “Медного Всадника”. Но сначала должен признаться, что я никак не способен снабдить каждый свой рисунок каким-либо объяснением (почему одно так, а другое этак); вообще подобная рассудительность не входит в обыкновение моего художественного творчества, почти все всегда создается (вернее, создавалось) наитию”, и мне кажется, что чем внимательнее я относился к такой “подсказке”, тем выходило лучше.
Следуют ответы на прямо поставленные вопросы Очень возможно, что “Любители изящных изданий” мне предлагали сделать иллюстрации к “Медному Всаднику”. Я это обстоятельство не припомню, но, во всяком случае, я с радостью ухватился именно за эту (или сам ее выбрал), ибо с самых юных лет, когда только я впервые познакомился с творением Пушкина, именно эта поэма особенно меня пленила, трогала и волновала своей смесью реального с фантастическим. Совсем по той же причине меня тянуло к “Пиковой даме”, которую я иллюстрировал три раза; первый раз в 1899 г. для Кончаловского, будучи еще в Париже (тогда моя работа ограничилась всего двумя виньетками); второй, для издания дешевых народных книжек, предпринятого Экспедицией государственных бумаг, и, наконец, в виде отдельной книги, изданной Голике и Вильборгом в 1911 г.
Что же касается до “этапов” создания иллюстраций, то я сразу решил, что буду идти “строфа за строфой”. Это легло в основание всей затеи я очень всегда любил такое “построчное” иллюстрирование как в иностранных (немецких, французских и английских) изданиях, так и в русских. Двумя моими любимыми подобными сериями были с очень ранних лет рисунки Сапожникова, рассказывающие печальную повесть о Виоль-д'Амуре, и чудесные композиции Ф. П Толстого к “Душеньке” Богдановича (вот, сказать кстати, что следовало бы переиздать непременно в том же или лишь в очень мало уменьшенном размере). У папы был превосходный экземпляр этих восхитительных гравюр, но при разделе наследства не мне из братьев достался этот экземпляр, однако впоследствии мне удалось приобрести всю серию и среди разных художественных ценностей мне здесь особенно недостает именно “Душеньки” Толстого (имеющей, кстати сказать, мало общего с Богдановичем). Я был очень утешен, когда Философов и Дягилев, узнав о распре с “Любителями изящных изданий”, предложили мне поместить (в сущности ни к селу ни к городу) мои рисунки, оставшиеся полностью без употребления, в “Мире искусства”, но при этом не был соблюден полностью мой план. А именно я хотел, чтоб книжка была бы “карманная”, формата альманахов пушкинской эпохи, а пришлось подчинить рисунки формату нашего журнала. В этом кроется причина, почему я решил в другом нашем издательстве выпустить ту же серию композиций уже в гораздо большем формате. Захотелось развернуться, кое-что исправить, уточнить, иным композициям это послужило в пользу, другим — скорее во вред. В следующем же году после этого первого опыта (в “Мире искусства”) я сделал пять или шесть композиций “Медного Всадника” для помянутого только что народного издательства Экспедиции. Однако, эти композиции остались лежать под спудом, но свои оригиналы я чудом нашел много лет спустя в каком-то “перерожденном” учреждении, и они были мне любезно возвращены. Где теперь эти оригиналы, я не знаю — может быть, у вас в музее? Две композиции из них послужили мне как бы эскизами для созданных мной уже здесь, в Париже, картин. Одну Вы “различили” в фоне моего фотографического портрета (это та, что приобрел Лифарь), другую: берегу пустынных волн” Вы увидите на фотографии Эдвардса, которую я Вам посылаю.
Будет уместно здесь сказать, что своим культом С.-Петербурга как целого я в значительной степени обязан своему отцу. Из его уст я, будучи еще совсем маленьким, впервые услыхал имена великих типично петербургских зодчих: Растрелли, Чевакинского, Воронихина, Кваренги, Томона, Бренны, Старова, Захарова, Росси <…>
Лувр (картинное отделение) стал неузнаваем, и я в нем теряюсь (терялся, пока еще мог бывать в нем), как в лесу. Все же главное назначение музеев — хранение, а не какая-то эквилибристика. В старой развеске Лувра было много недочетов — одна бесконечная главной галереи являлась сущим абсурдом (да простит мне Гюбер-Робер такую мою критику его затеи); однако эта осталась, по-прежнему она страдает отвратительным освещением (мутные, грязные стекла плафонных просветов!), по-прежнему знаменитейшие картины в ней теряются, а в то же время все, что было в кабинетах и других залах (между прочим, все “маленькие голландцы”), растасовано самым дурацким образом, а старая французская школа просто-таки не существует как нечто целое… То ли дело наш Эрмитаж, наш Русский музей, наша Третьяковская галерея!!!
Р. S. A будете в Москве — расцелуйте от меня Грабаря, Митрохина и дорогого Петра Ивановича Нерадовского. Как я рад за него! Как мне хотелось бы быть вместе со всеми вами!
Париж.
Читайте также...
Партнёрские ссылки:
Аптечка универсальная фэст www.wildberries.ru/catalog/46250086/detail.aspx.
https://chololi.ru плюсы и минусы кератинового выпрямления волос.