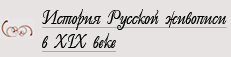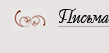Письма к Игорю Эммануиловичу Грабарю
Краткая справка об Игоре Эммануиловиче Грабаре
Грабарь, Игорь Эммануилович - живописец, родился в 1871 г.; учился в Москве в лицее цесаревича Николая и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. По окончании его (1893) поступил в Академию Художеств, затем учился в Париже и Мюнхене. Вернувшись, поступил в мастерскую Репина , но пробыл там недолго и снова уехал в Мюнхен, где поступил в школу Ашбэ; через год сделался преподавателем в этой школе. В 1901 г. поселился в Петербурге, где вместе с князем Щербаковым начал крупное художественное предприятие "Современное искусство", устроил ряд выставок отдельных художников, прикладного искусства, японской живописи и др. Грабарь предпринял путешествие по Северу России, изучая старинную деревянную архитектуру. С 1902 г. Грабарь принимает участие в выставках "Мира Искусства", в "Салоне" и "Союзе"; выставляет и за границей: в Мюнхене, в Париже, в "Salon d'Automne", в 1906 г. на выставке русского искусства, устроенной С.П. Дягилевым , в Риме на международной выставке в 1909 г. и т. д. В первый период художественной деятельности Грабарь остается реалистом и примыкает к кружку московских пейзажистов, затем увлекается разрешением технических задач в живописи и становится крупнейшим представителем школы пуантелистов в России. В целом ряде больших картин и ярких этюдов он изображает русскую природу и дает мастерские "nature morte". В Третьяковской галерее имеются картины: "Луч солнца" (1900), "Февральская лазурь" (1904) и "Неприбранный стол" (1907); в музее Александра III: "Сирень и незабудки" (1905); в коллекции В. Гиршмана в Москве "Сентябрьский снег" (1903); "Плакучая береза" (1904) и "Хризантемы" (1905); в коллекции И.А. Морозова "Мартовский снег" (1904); в литературно-художественном кружке в Москве "Иней" (1906); в Национальной галерее в Риме "Утренний чай" (1904). Грабарь много писал об искусстве: в "Мире Искусства", "Весах", "Старых годах", "Аполлоне", "Ниве" и др., текст в издании Кнебеля: "Картины современных художников в красках", редактором которого он также состоит; он же является редактором и крупнейшим сотрудником предпринятого Кнебелем издания: "История русского искусства", а также ряда монографий: "Русские художники". В начале 1913 г. московской городской думой избран попечителем Третьяковской галереи. Кроме живописи, изучал в Мюнхене и архитектуру. По его проектам в 1912 - 13 годах выстроен в Химках, около Москвы, целый больничный городок "Захарьинская больница".
8 ноября 1946 г.
Дорогой и милый Игорь Эммануилович!
Снова представляется оказия перемолвиться словечком, и я спешу ею воспользоваться. И первым долгом я должен тебе высказать все свое горе по поводу кончины нашего милого Жени Лансере. Ой, как жутко ощущать, что все редеет наша компания! Превращаемся мы с тобой в нечто подобное “Последним могиканам”. Помнишь, как, когда мы зачитывались Купером, нам становилось грустно, что Чинчакчук и Ункас остаются именно последними, одинокими. А теперь вот и мы стали подобны им. А какая была Сколько нас было! И как все сплочены, и как каждый нужен всем, и все преданы одному делу — защите и распространению подлинного искусства или того, что мы с полным убеждением считали за таковое. Ну вот, а теперь за “подлинное искусство” считается нечто совсем иное, и с этим мы уже ничего поделать не можем. Еще ты, счастливец, можешь, так как в твои надежные руки поручена вся российская старина. А вот я сижу со сложенными (в этом отношении) руками и даже писать теперь закаялся. Ни за что — это не момент, хоть порою так и зудит. Остаются же из нашей стаи только ты да я, да Анна Петровна, да Нувельчик, да Добушка. Но ты и Анна Петровна в недосягаемой дали, и нет возможности установить между нами правильного контакта, Валечка так хил и хвор, так глух, так печален (он никогда не выходит из своего отельного номера), Добушка в Америке... Еще несколько человек примкнули к нам: Эрнст, Бушен, мой сын Кока, моя дочь Елена (серьезно принялась за живопись — наконец-то!), мои племянники и племянницы Серебряковы (Зина, Шура, Катя) и Надя Устинова (дочь брата Леонтия, известна в Англии под именем Nadia Benois), милейший Сорин (я его как человека очень оценил во время того, как он в течение более двух месяцев писал мой портрет, получившийся куда удачнее и характернее, нежели портрет Сергея Иванова). Но все эти примкнувшие хоть и очень дороги моему сердцу, все же другой эпохи”, и многое из того, что нам “понятно само собой”, остается для них если не чуждым, то все же довольно далеким. Впрочем, и в России остались еще несколько если не из то все же <довольно?> “примкнувших”. Что, кстати скажешь, поделывает Г. Верейский? Мне был очень люб его сосредоточенный нрав! А что Курбатов? Что Асафьев? Что Шапорин? Но из литераторов после смерти Алексея Толстого уже лично никого не знаю. Сам я все последние недели был исключительно занят театральными постановками. Для одного лондонского театра я сделал “Богему”, для Америки “Лебединое озеро” и “Раймонду” для миланской Скалы (где по-прежнему с большим успехом работает наш Коля) я сейчас занят “Лучией”. Из здешних художественных событий отрадным считаю только то, что Лувр постепенно оживает и открываются зал за залом, и выставку шпалер (какой дивный сказочный мир)...
Все мои близкие в порядке. Анна Карловна просит передать тебе и милой Валентине Михайловне свои сердечные поклоны. Я присоединяюсь к ней и от души желаю тебе еще возможных благ и радостей. Преданный тебе друг
Александр Бенуа
Париж. 8 ноября 1946.
29 марта 1957 г.
друг Игорь!
Рад был чрезвычайно получить от тебя весточку и узнать, что ты пребываешь в добром здравии и обладаешь прежним неисчерпаемым запасом сил творческих и физико-моральных. Как раз “весточка” в форме твоего монументального исследования о новооткрытом портрете тому служит свидетельством. Книга издана с удивительной роскошью и содержит массу интереснейших сведений. Не скрою, что я, знакомясь с ее содержанием, исполнялся некоторой зависти — что ты вот продолжаешь возиться с картинами и со столь увлекательным делом их исследования, атрибуции, регенерации и т. д.
Однако тебя, вероятно, особенно интересует вопрос, какого же я мнения о твоем открытии. [Имеется в виду работа И. Э. Грабаря “Новооткрытый Рембрандт”.] И вот, дорогой и милый Игорь, умоляю тебя не сердиться и не досадовать, а поставить это мое отрицательное мнение на счет того, что я-де стал плохо видеть и вообще отстал от века. Это (кроме, слава богу, зрения), пожалуй, и так, но не могу же я согласиться, что вещь писана Рембрандтом — и хотя бы авторство ее было подкреплено бесчисленными доказательствами и самой основательной экспертизой, когда самая картина просто на него не похожа! А что это такое, я не знаю. Едва ли недавняя подделка вроде живописи легендарного Вечтомова, которому удалось-таки ввести в обман не только Рериха, но и самого Браза! Может быть, это и не форменная подделка, а работа какого-нибудь очень умелого подражателя великого мастера, ну скажем, Денвера, Дитриха или Паудитца, монограмма же прибавлена другой рукой, но тоже давным-давно.
Вообще же, хоть я и говорю выше, что завидую тебе (оно так), однако в то же время я рад, что мне не приходится заниматься делами этой категории. Я просто отошел от них, как и от многого другого. Театр продолжает меня кормить, но и от него я, перестал получать прежнюю радость — тут, может быть, играет роль и то, что я стал глуховат и просто плохо могу следить за словами актеров. Лучше обстоит дело с оперой, но любимые мои вещи здесь не даются, а всякую новую Беккемейеровщину [Беккемейеровщина — по имени Беккемейера: синоним ремесленного отношения к искусству.] тошно и скучно слушать. Что же касается балета, то я его переел, а с другой стороны, с нашей легкой руки (уж эти мне Ballets Russes!) с балетом получилось нечто комично-космическое: все заплясали, не проходит дня, чтоб не рождалась новая труппа или антреприза, да и нет сейчас такой семьи, у которой хотя бы один ее член не мечтал бы себя посвятить плясовой карьере, а то уже и пляшет! Гораздо лучше обстоит с моим отношением к художествам пластическим, с живописью, со скульптурой и т. д. Я по-прежнему трепещу при встрече с чудесной картиной, с каким-либо “божественным” рисунком, с архитектурным памятником. Однако и тут дело обстоит не совсем благополучно по чисто физической причине. В музеях и на выставках я очень быстро устаю и вместо удовольствия начинаю испытывать гнетущую боль в пояснице, желание лечь, растянуться и т. п. Между тем сколько здесь можно видеть чудесного и разнообразного. Не говоря уже о музеях (увы, Лувр по-идиотски весь перегруппирован, ничего нам, привыкшим к прежней развеске, теперь найти нельзя, много превосходных вещей ушло в запас) — не говоря о музеях, какие выставки — одна за другой или сразу по две, по три... Сейчас в Pavillon Marsan чудесная выставка главных сокровищ Безансоновского музея (вероятно, тебе известного). Какие рисунки (Фрагонара и других), какой чудный портрет Дирка Якобса (если не самого Скореля), какая прелестная, полная молодого задора и вовсе не банальная китайщина Буше, какой портрет дочери Шарля Нодье, писанный Жигу, сколь любопытна гигантская шпалера XVI века, представляющая завоевание Туниса Карлом V. Последнее не лишено и актуального интереса — только вот о завоевании нынче что-то не слышно
Ох, разболтался старик! А хотелось бы еще многим поделиться... Кончаю же я сие послание повторением просьбы: не сердись! А за подарочек я как-никак благодарю и даже — в чрезвычайной степени. Книжка отменная, и из нее можно много почерпнуть полезного, даже помимо вопроса о данной картине. Впрочем, прав был покойный Браз, твердивший (тоже изверившись в возможность абсолютно правильного суждения о старинных картинах), что “вся эта область — банка чернил!”. Я предпочитаю любоваться картинами по простоте душевной, оставив страх перед возможными ошибками и даже временами вовсе не заботясь о том, кем они созданы... Совсем не научное отношение.
Обнимаю тебя, дорогой друг, и буду рад, если ты, отложив гнев и презрение, снова как-нибудь вспомнишь обо мне.
преданный тебе Александр Бенуа
P. S. Я бы послал тебе свои Воспоминания (те два тома из пяти или шести, что вышли), но я не уверен в том, доберутся ли они до тебя...
P. P. S. Все мы здесь крайне заинтересованы вопросом, в каком положении находится твоя двухтомная монография Серова, о которой было объявлено в твоей юбилейной памятке: она-де (монография) находится в печати.
Париж. 29 марта 1957 г.
10 мая 1957 г.
Милый и дорогой друг Игорь!
До чего же ты меня обрадовал и письмом и телеграммой! Колоссальное преувеличение, которым ты меня наградил в телеграмме, разумеется, абсолютно не заслужено, но тем более оно свидетельствует о твоих дружеских чувствах! В оных я никогда не сомневался, но лишнее подтверждение их меня очень утешило, а вообще твоя телеграмма украсила то настроение, коим было исполнено празднование моего дня рождения 87 лет! О господи! Думал ли я когда-то, что до живу до такого hohes Alter! [Преклонного возраста (нем.).] И мог ли я предположить такой ужас, что буду доживать свой век без моей обожаемой подруги, без моего ангела — Анны Карловны <…>
К портрету же “Рембрандта” я не стану возвращаться, но за твою характеристику меня и за всю твою “формулу” наших взаимоотношений — спасибо. Мне эта формула очень по душе, и я во всяком случае более согласен с тем званием, которым ты меня награждаешь в письме, нежели с тем, что стоит в телеграмме. Звание сие “интуист”. Причем, однако, я считаю, что без интуиции вообще далеко в распознавании художественных вещей не уйдешь. Ну а теперь basta cosi… [Довольно болтать (итал.).]
Ты хотел бы иметь какие-либо сведения о моей художественной деятельности, в частности о моей графике. Увы, оная здесь была далеко не столь плодотворной, как тогда, когда полвека назад, я передавал на бумаге те образы, что возникали в моем воображении, читая и перечитывая “Медного Всадника”. Все же кое-что я и здесь создал в этой области.
В 1925 г. я иллюстрировал (и, по-моему, неплохо) книгу Andre Maurois “Les souffrances du jeune Werther” [Андре Моруа “Страдания молодого Вертера” (франц.).]; в 1927 г. — с несколько меньшей удачей — роман Буалева lecon d'amour dans un parc”. [“Урок любви в парке” (франц.).] Около того же времени я создал серию иллюстраций к роману Henri de Regnier Pecheresse”. [Анри де Ренье “Грешница” (франц.).] Последняя работа, однако, так и не увидела света… и это потому, что мой тогдашний издатель милейший, но крайне неосторожный Edmond Bernard внезапно обанкротился.
Наконец, курьез получился с моими иллюстрациями к “Капитанской дочке”. Я изготовил все hors textes'ы [Вкладки (франц.).] (по одному на главу) и получил 3/4 гонорара, оставалось сделать одни заставки и концовки, как вдруг выяснилось, что издатели горько разочарованы и не желают давать свое имя (не столь уж знаменитое) такой книге. Они-де воображали, что M-r Benois сделает что-либо dans le gout des Ballets Russes [Во вкусе Русских балетов (франц.).], что-либо вроде “Petrouchka” [Петрушки (франц.).] (буквально их слова), и вдруг такой камуфлет: военные в формах, напоминающих французские XVIII века, а весь стиль, tres pompier [Очень избитый (франц.).], и вовсе не говорит о нашей эпохе, овеянной Пикассо и Матиссом. Так эта затея и канула в воду. Лично я не был вполне доволен тем, что я сделал, и потому скоро утешился...
Ах, милый Игорь, немало выдалось мне подобных огорчений за все эти годы пребывания на чужбине, а вообще я все более чувствую, до чего не я один, но все мы, россияне, созвучны” с нынешним временем, да, впрочем, я каждый день все более убеждаюсь, что это самое время совсем спятило с ума. Видел ли ты “церковь”, сооруженную архигениальным Ле Корбюзье в местечке Ronchamp, или “скульптуры” из металла другого архигения англичанина Lynn Chadwick! Вероятно, видел, ведь до вас, до ваших библиотек все здешнее доходит. Так вот разве эти перлы не означают самого чудовищного мракобесия, вполне показательного для всего современного человечества и не только в тесной сфере художника? И до чего же это не похоже на то, что нам когда-то мечталось! Впрочем, я убежден, что ты, мой милый крепыш и оптимист, не дошел до таких отчаянных воплей и по-прежнему не знаешь уныния, нижe отчаяния, заглядывая в будущее...
Добужоны недавно гостили здесь, но снова отбыли в Лондон. А осенью они обязаны оказаться в Соединенных Штатах, иначе они лишаются американского гражданства. Катаются себе взад и вперед. Но в Штатах у них младший сын — Додя (женат, две дочки, отлично устроился, он плакатист), тогда как старший, Стива, здесь и за последние годы преуспевает главным образом благодаря тесному и умному сотрудничеству своей жены Лиды (они заняты театральными костюмами)…
Письмо мое очень удлинилось и, вероятно, разбор моих каракуль тебя утомил (хотя, говорят, что почерк мой весьма упорядочился), поэтому прекращаю. Но буду рад, если наша переписка на этом не прервется. А на всякие твои вопросы готов отвечать (если только это не потребует каких-либо архивных и других утомительных изысканий, на что у меня нет больше сил). Если хочешь знать, чем я занят в данное время, то повторю уже сказанное: “кормит меня театр”. Впрочем, если удастся недельки на 2 — 3 выбраться на деревенский простор (вероятнее всего, к нашим друзьям супругам-художникам Noufflard, y которых прелестный мануар [Франц. manoir — барский дом, замок.] в Нормандии), то поработаю я и с натуры, что всегда является для меня оздоровляющим отдыхом. Следовало бы мне продолжить писание своих Воспоминаний, застрявших на 1909 годе, но за ненахождением (русского) издателя (после банкротства Чеховского издательства) у меня иссякла нужная для того энергия. А сколько хотелось бы еще поведать потомству... Видно, не судьба.
Обнимаю тебя крепко, прошу передать мой сердечный привет Марии Михайловне и Валентине Михайловне.
Твой верный Александр Бенуа, Париж. 10 мая 1957 г.
27 декабря 1957 г.
Милый дорогой Игорь!
Бессовестно долго не отвечал тебе на твое столь милое столь сердечное письмо! Но не подумай, что это получилось от какого-то моего “равнодушия”. Повинна исключительно здешняя тормошня, суета, а затем, в значительной степени, и моя “занятость”. За этот год я создал две постановки “Петрушки”. Одну для Лондона (прошла весной в Covent-Garden'e), другую для Венского Operhaus'a (еще только пойдет), а также постановку “Щелкунчика” (опять-таки для Лондона). Все это взяло у меня немало времени. Здесь же в Париже меня игнорируют, как и вообще всякое художественное творчество, не носящее признаков de l'esprit moderne [Современного духа (франц.).], выражающегося то в одном модном кривлянии, то в другом. Сказать кстати, за последние месяцы как-то катастрофически расцвело на общем фоне ерунды так называемое отвлеченное искусство, которое если вначале и имело в себе какие-то “честные” импульсы (черт с ними, но все же эти искания в лице, скажем, Кандинского внушали какое-то подобие доверия и уважения), то ныне это превратилось в свистопляску самого дикого шарлатанизма и самообманного любительства. Рядом с этим блещут по-прежнему Шагал и пророк из пророков Пикассо. Возможно, что столь махровый расцвет (вся rue de Seine торгует только “абстрактным”) обещает в недалеком будущем конец этой мерзости запустения, но пока… Однако не стану тебе докучать этими ламентациями: лучше вернусь, с чего начал. Так знай, что я тебя по-прежнему люблю и кроме того беспредельно уважаю (je vous admire — русского слова нет). Да послужит тебе сия декларация свидетельством моих истинных и искренних чувств и да простишь ты мне во имя этих чувств мою провинность (долгое молчание). В этом прощении ты тем не менее не можешь мне отказать, ведь мы с тобой остаемся два последних из последних могикан — после того, как нас так неожиданно покинул милый Добужинский!... Прощаясь с ним всего месяц назад (еще полного месяца нет), накануне его отбытия в Америку, я, пожалуй, чуял, что вижу его в последний раз... Слишком явно при этом он как-то “топорщился” перед этим шагом, и ему ужасно не хотелось бросать Париж (точнее Европу) и снова окунуться в опостылую жизнь по ту сторону океана... Насколько такой жизненный финал в целом оказался менее завидным, нежели твой, милый Игорь. Твое описание вашего Абрамцевского покоя и приволья, то, что ты так чудесно устроился, возбуждает во мне — не зависть (от таковой я вообще просто отвык), а какую-то особую радость. Ты это заслужил, ты получаешь по заслугам. Ты познаешь в старости истинное счастье.
Что же касается до меня, то и я, в сущности, не имею права жаловаться, но все же то, что со мной происходит, не совсем то, о чем я когда-то позволял себе мечтать; не говоря уже о том, что со смертью моей Ати я лишился своей главной опоры, я вовсе не чувствую себя ни достаточно обеспеченным, ни достаточно спокойным за себя и за своих самых близких, чтоб я мог говорить о вполне мажорном и умиротворяющем финале. И, ах, как недостает мне все наше родное, российское, далеко недостаточно в свое время оценивавшееся. Исполнилась моя заветная мечта: я в Париже, я живу в Париже, и, вероятно, кончу свой век в нем. Мало того, вся моя семья, весь мой здесь, даже и их потомство в Париже, сын в Милане, его сын в Риме, но уж эти “реализованные мечты” ныне не утешают меня, не веселят души! Не хочу грешить, не хочу жаловаться. И так очень хорошо, а вот где-то не перестает щемить и сосать. И как хотелось бы быть там, где у меня открылись глаза на красоту жизни и природу, где я впервые вкусил любви и т. д. Почему я не дома?! Все вспоминаются какие-то кусочки самого скромного, но сколь милого пейзажа... Довольно! Надоел!!
Поздравляю тебя, мой дорогой, и всех твоих любимых с наступающим Новым годом и от всей души желаю вам всего самого полного благополучия.
Твой верный друг Александр Бенуа, Париж. 27 декабря 1957 г.
11 марта 1958 г.
Дорогой друг Игорь!
...Ты констатируешь, что мы одинаково чувствуем и не меняемся, но тут же высказываешь сомнение: “хорошо ли это?” Беру на себя смелость утверждать, что хорошо. По крайней мере здесь, в городе, мнившем себя столицей интеллектуальности и культуры (и когда-то имевшем известное основание на то претендовать), ныне творится такая нелепая белиберда, что никак не хочется меняться по ветру, в сторону всякой бездари и шарлатанства. Лучше оставаться по-старому и при старом. А впрочем, если бы даже мы захотели, то не смогли бы. Уж больно все глупо. Уж больно все оценивается не с точки зрения какого-либо удовольствия, получаемого от лицезрения картин или от слушания музыки, или с точки зрения пользы, или от того, что мы по-прежнему называем поэзией, а с точки зрения известной биржевой акробатики — кто кого переплюнет, за кого сейчас платят больше миллионов и т. д. Сейчас здесь загремел Бернар Бюффе — вероятно, и до вас уже дошли раскаты этого грома, начавшего греметь года два-три назад, но лишь ныне достигшего чего-то оглушительного. Только о нем, о Бернаре Бюффе, и говорят: ругают его, хвалят, недоумевают, но почему-то не догадываются, что его искусство нечто такое, о чем просто стоит” говорить; вообще это не искусство, а еще один bluff [Блеф (англ.).], притом крайне невежественный и бездарный. Прельщает же он, пожалуй, только тем, что то, что он изображает, хоть можно разобрать, понять. Уж очень надоела пустая бурда, наглое шарлатанство и дразнящие шуточки. Среди всякой другой своей стряпни он теперь выставил целую “эпопею” — историю все той же Жанны д'Арк. И вот эти его шедевры не годятся даже для самых убогих учебников — и однако всерьез обсуждаются, точно это и впрямь eine gewisse Leistung [Известное достижение (нем.).], благо это что-то изображает. Но до чего же наша эпоха попятилась назад, если сравнить такое творчество и с самыми беспритязательными изделиями былых времен или даже в сравнении с тем, что сейчас делается, но в сферах скромных, не претендующих на зачисление в первый разряд или на покупку, за миллионы, в какие-либо передовые музеи и коллекции. Ведь очень милые и прелестные вещи изготовляются и в наши дни скромными художниками и в области иллюстрации, в частности детских книжек (кстати сказать, и у вас это так — я покупаю почти все, что издается Детгизом) и в плакатах.
Однако я замечаю, эта тема не для письма, или таковое грозит превратиться в “трактат”. Я потому, сказать кстати, и перестал делиться со своими современниками впечатлениями и мнениями, что все толкает на многословие, а то, в чем можно заподозрить старческую болтливость, и читать никто не станет. Уж очень все контакты нарушены, уж очень все огрубело, уж очень все приходится объяснять ad ovo. [С самого начала (лат.).] Разумеется, поклонники современной чепухи скажут: так всегда было, старики ничего не понимали в том, чем были заняты, что творили молодые. Отличная, кажущаяся вполне убедительной, отговорка: на нее ничего и не ответишь... Видно, так нужно. Чтоб набраться новых сил, нужно дать почве отдохнуть. Тебе же, во всяком случае, принадлежит неоспоримая заслуга постоянного и неослабного ободрения. Честь тебе за то и слава!
Перечитав все настроченное, удивляюсь, до чего туманно и нескладно я изложил свои мысли. Но пусть так и останется. C'est un document des temps presents. [Это документ настоящих времен (франц.).]
Париж, 11 марта 1958 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: