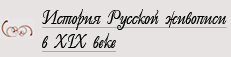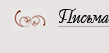Выставка Гойи
картина7
I Весь прошлый год сильно поговаривали о том, что в Париже будет устроена выставка сокровищ мадридского Прадо. И такой проект действительно разрабатывался. Однако, когда обнаружилось, что перевозка драгоценнейших картин главного музея Испании сопряжена, ввиду развития военных действий, с слишком большим риском, то мысль эта была оставлена, и картины Веласкеса, Греко, Мурильо и других лучших испанских художников остались томиться, запрятанные в какую-то башню Валенсии, в которой, как считается, они более или менее укрыты от воздушных и иных нападений.
Среди намечавшихся к выставке произведений на самых почетных местах должны были фигурировать картины Гойи — и уже парижане заранее радовались, что увидят воочию и семейный портрет Карла IV, и “Ромерию”, и обеих и чудесную серию картонов Гойи к шпалерам Санта-Барбара — так называемые Tapices. Чтобы несколько утешить Париж в постигшем его разочаровании, Лувр и затеял теперь выставку одного только Гойи. Однако составлена она без участия испанских музеев и исключительно из того, что имеется под рукой, — иначе говоря, в Лувре, в провинциальных музеях и в некоторых частных собраниях.
Набралось не так уж много произведений — каталог насчитывает всего 31 номер, из которых не все могут считаться вполне достоверными произведениями Гойи, но и за это надо быть благодарным. Как-никак выставка дает достаточно яркое представление об одном из главных властителей художественных дум настоящего времени, и на ней можно провести несколько часов в том волнении, которое неминуемо порождает любование произведениями Гойи, а ведь как раз мы сейчас больше всего от искусства требуем взволнованности. Совершенно равнодушным никто выставки не покинет, и даже теми, кому Гойя не дорог, кого раздражают его слишком бросающиеся в глаза странности, недочеты и промахи, неминуемо должно овладеть на выставке особенное настроение, точнее, какое-то беспокойное, восторженное чувство, имеющее в себе большую своеобразную прелесть.
Из тридцати одной картины на выставке — большинство портреты, и очень мало картин с сюжетами, особенно типичными для Гойи. Совершенно отсутствует как раз та сторона творчества мастера, которая с особой яркостью вылилась в его “шпалерах”, иначе говоря, — то, что выдает в нем сына XVIII века, человека, еще заставшего в живых и Тьеполо, и Фрагонара, и Гварди. Получившийся подбор, разумеется, довольно односторонен и является чем-то случайным, не отвечающим всей крайне сложной натуре великого испанца. Не хватает “жуткой гримасы” Гойи, и вовсе отсутствует “его чарующая улыбка”. Но того, что есть на выставке, достаточно, чтобы познакомиться с манерой Гойи видеть вещи, с его техникой и главным образом с гармонией и чарами его палитры. Плохих и недостойных произведений — из тех, что часто носят имя Гойи в коллекциях или на распродажах, — совсем нет, и, напротив, можно вполне к шедеврам мастера причислить многие из выставленных портретов и несколько картин.
Таким образом, Гойя сейчас в Париже, и это его присутствие надлежит использовать всем, кто интересуется живописью и любит ее. В своем роде это временное пребывание Гойи в гостях у нас не менее значительно, нежели было пребывание Греко, и как раз в дни, когда с особенной досадой испытываешь, что выставка последнего в галерее Вильденстэна кончилась, что все собранные на ней чудеса “испано-венецианского грека” снова разбрелись по своим владельцам, как раз в эти дни утешительно побывать на выставке Гойи, которая, к сожалению, также продлится недолго, после чего и собранные на ней шедевры снова скроются в замкнутых частных собраниях или разойдутся по музеям Лилля, Ажана и Кастр. Останется доступным для парижан лишь то, что в Лувре, и хоть “Генерал Гильмарде” или “Неизвестная в сером” и очень хорошие картины, однако они все же далеко не столь значительны, как имеющиеся на выставке портреты сына и невестки Гойи, как необычайно острый портрет Района да Посада или как большущая картина из музея в Кастр, изображающая заседание филиппинской хунты под председательством короля Фердинанда VII.
Мое знакомство с Гойей произошло очень рано, больше чем полвека назад, и тем не менее момент этого первого знакомства запомнился мне с чрезвычайной отчетливостью. В 1883 году мне на рождение подарили довольно объемистый, переплетенный в красный переплет том “Истории искусств” Рене Менара, и с одной из страниц этой-то популярной, в общем уютнейшей книги взглянул на меня “ужас Гойи”. Воспроизведен у Менара офорт Гойи, относящийся к 1780-м годам, — “Удавленник” (“Le Garrote”). Какой-то человек, вероятно, убийца, представлен сидящим у позорного столба; железное кольцо охватывает его шею и медленно душит его: в связанные руки ему сунули крестик, которого, однако, он не видит, ибо не в состоянии ворочать головой или нагнуть ее. Ноги вытянулись вперед и, против правил классической композиции, повернуты к зрителю голыми ступнями. От всего казнимого, кроме жалкого, безобразного, бородатого лица, взъерошенных волос, кистей рук и этих пяток, ничего не видно, все остальное закрыто бесформенной рубахой —саваном. Освещен несчастным огарком, воткнутым в пол. Не видно и того, что его окружает, так что не скажешь, происходит ли пытка на открытом воздухе, среди площади или же в замкнутости темничного каземата. [На копиях с этого офорта место действия откровенно определено — Le garrote оказывается восседающим на эшафоте, окруженном разношерстной толпой. Однако надо признать, что такая разработка темы отнюдь не способствует усилению эффекта. Две такие копии, точно два варианта на тему, принадлежащих руке подражателя Гойи, по всей вероятности Лукасу-старшему, имеются на выставке (Прим. автора.).] И именно такая выхваченность на смерть обреченного из всего живого мира как-то особенно подчеркивает ужас его состояния, с особой отчетливостью заставляет понимать то, что должен испытывать в своей агонии (безразлично, заслуженной или незаслуженной) этот человек, для которого нет спасения, который уже не принадлежит к сему миру и который даже не имеет возможности ускорить свой конец.
В день получения менаровской “Histoire des Beaux-Arts” [“История искусств” (франц.).] мне минуло 13 лет, и хоть я и мнил себя уже взрослым, однако был на самом деле ребенком, и не мудрено, что на мою очень еще свежую впечатлительность картинка в книжке произвела потрясающее действие. В детстве в нас, рядом с чувством жалости, иногда очень громко говорят всякие, не лишенные кровожадности и даже известного садизма инстинкты, и известно, что сцены всяких мучений и казней обладают для детей притягивающей силой. Особенно же меня ошеломила (и по-своему пленила) жестокая, лишенная всяких масок откровенность, с которой Гойя (имя которого я тогда прочел в первый раз) выразил ужас смерти, и особенно оно казалось поразительным после всего того, что во время первого листания полученного подарка прошло перед моими глазами — после ангелов Гоццоли, мадонн Рафаэля, амуров Альбани и т. п. Ничто не предвещало в ясной парнасской атмосфере, которой в общем исполнена книга Менара, такой “выкрик из преисподней”, такое резкое, даже грубое нарушение известной художественной благопристойности, такое попрание тех правил, из которых складывается понятие об изящном искусстве, правил, которые в те времена я принимал как безусловную истину.
Для меня имя Гойи было абсолютно неизвестным, тогда как с именами многих других художников прошлого в воображении восставали уже совершенно ясные образы, но неизвестным имя Гойи оказалось и всем моим близким. Напрасно стал я доискиваться у отца и старших братьев, кто это такой, напрасно я рылся в богатой папиной библиотеке, чтобы увидеть еще что-либо созданное поразительным художником. Лишь года два спустя я увидел в сомовском “Вестнике искусства” несколько снимков с офортов “Каприччио” и “Провербиос”, но я скорее был разочарован, ибо ничто уже не могло повторить ту силу удара, которую я испытал от внезапного появления передо мной “Удавленника”. И вот, мне кажется, нечто подобное тому, что испытал полвека назад петербургский мальчик от случайно увиденной в популярной книге картинки, должны были за много лет до того пережить при знакомстве с Гойей значительнейшие художники Европы — те самые люди, которые проложили европейской живописи целое новое направление, начиная с Делакруа и кончая импрессионистами.
Еще сходство Делакруа с Гойей можно объяснить общностью известных интересов и влечений, свойственных всей данной эпохе. Как-никак, но в течение нескольких лет Делакруа, хоть и был на пятьдесят лет моложе Гойи, все же жил с ним в одно время. Но для Мане Гойя был уже вполне прошлым, и возможно, что тем более поразили того, кто считается отцом импрессионизма, картины испанского мастера, которые ему довелось увидеть сначала в Париже, в составе выставленной в Лувре коллекции короля Луи-Филиппа, а затем и на родине Гойи, куда Мане отправился в начале своей деятельности.
Гойя может быть вполне назван предвестником импрессионизма. Именно в его творчестве произошел первый разрыв с традиционным прошлым, с художественной “благопристойностью”, которой не изменяли и самые смелые новаторы. В его творчестве воцарилась невиданная дотоле, доходящая иногда до цинизма свобода. Гойя стал передавать видимость совершенно просто, без малейшей прикрасы, передавать ее таковой, какой она ему представлялась с первого взгляда, по первому впечатлению. Но Гойя, кроме того, оказался совершенно свободным и в духовном отношении. В реализме портретов он дошел до того, что иные из самых официальных его портретов представляются сейчас настоящими пасквилями, а в передаче образов, носившихся в его фантазии, он за много лет до того, как вся Европа оказалась в чаду романтики и за сто лет до первых проблесков сюрреализма, как бы руководствуясь теми же принципами импрессионизма, пытался уловить свои видения во всей их непосредственности, вовсе не заботясь о том, чтобы возникавшие в таком трансе видения отвечали каким бы то ни было “законам” композиции и “правильного” рисунка. Этим он отличается и от других художников-фантастов конца XVIII и начала XIX века — от Фюсли и от Блэйка, и этим самым он предвещает “первого импрессиониста-фантаста” — Делакруа.
Любопытно, что Гойя меньше всего нашел себе последователей на родине, и это несмотря на то, что он пользовался необычайной популярностью. Гойю никак нельзя причислить к семье непризнанных гениев. Если жизнь его и нельзя почитать счастливой, то это вследствие его физического недуга — его глухоты, семейного неблагополучия (он потерял почти всех своих детей и едва ли жил в согласии с женой) и, наконец, вследствие тех ужасов, которые Гойя пережил вместе со всеми своими соотечественниками, когда, после отречения Карла IV и воцарения Жозефа Бонапарта, страна оказалась на многие годы погруженной в самые убийственные и жестокие смуты. Что же касается до творческой, до художественной стороны его жизни и до его общественного положения, то Гойя продолжал во все времена беспрепятственно работать, продолжал пользоваться официальным признанием, и даже по возвращении Фердинанда VII на отеческий престол Гойе не было поставлено в упрек то, что он одно время как бы симпатизировал революционерам и оказался среди тех, кто присягнул брату “корсиканского узурпатора”.
Лишь в самом конце своей долгой жизни Гойей овладела известная тревога, и под предлогом лечения мастер решил покинуть Испанию; однако эмиграция Гойи была вполне добровольной, и, живя во Франции, он даже продолжал пользоваться королевскими милостями. Оставила в покое художника и инквизиция, вступившая с момента воцарения Фердинанда в эру известного возрождения. Если у Гойи не оказалось последователей, если он не создал школы, то не потому, что он был во внешних обстоятельствах жизни неудачником, и не потому, что его искусство было объявлено политически неблагонадежным, а потому, что он был одинок по существу, как личность, как член общества и как “продукт культуры”. Его одиночество главным образом обусловлено тем, что он зашел слишком далеко вперед и что вследствие этого ему не могло найтись вполне достойных попутчиков. У Гойи было несколько подражателей, среди которых более даровитыми были оба Лукаса, не лишенные остроты картинки которых иногда сходят за оригиналы Гойи. Но даже Лукасы — явления, несоизмеримые со своим прообразом, и из них никак не составишь какой-либо школы Гойи. Школой Гойи можно скорее назвать французов середины XIX века, и вот такая школа Гойи продолжилась во Франции вплоть до наших дней — принимая в соображение все, что в применении термина в данном случае имеется парадоксального.
IIДаже не считая луврских портретов, которые мы можем видеть каждый день, не все картины на выставке для нас новы. Как раз три портрета были показаны парижской публике в 1935 году, когда была устроена выставка в Национальной библиотеке, посвященная главным образом графике Гойи, рисункам, офортам и литографиям; в виде особенного украшения выставка содержала и несколько живописных произведений. Выставлен был прелестный, необычайно нежно трактованный портрет хорошенькой певицы Лоренцы Корреи, и тогда же одна из наиболее излюбленных публикой картин Лувра — портретик маркизы де ла Мерсед, — была слегка дискредитирована соседством более значительного варианта того же портрета из собрания Давида Вейля. Их с удовольствием мы снова получили на выставке в Оранжерее. Главной же приманкой ее являются абсолютные новинки: оба портрета в рост сына Гойи и его жены, необычайно острый портрет видного чиновника по судебной части — дона Рамона де Посада, поздний, довольно вялый портрет дона Франсиско дель Масо, автопортрет из музея в Кастр, портрет живописца Асенсио Хулия, эскиз к конному портрету Фердинанда VII и картина “Больной Гойя и его врач”.
Портреты сына и невестки очень эффектны. Видно, Гойя хотел создать в них своего рода памятники для “фамильной галереи”. Это не помешало тому, что единственный и любимый сын вышел в своем наряде французского incroyable [Невероятный (франц.); прозвище, данное франтам времен Директории.] и на своих чрезмерно толстых ногах чуть карикатурным, а донна Гумеринда Гойсочэска-и-Гойя делает слишком заметные усилия, чтобы, став в танцевальную позицию, казаться особенно корректной и даже чопорной.
В портрете сына, выдержанном в гамме серых, голубоватых и оливковых тонов, больше всего пленит лицо — вернее, “личико”, совершенно еще детское, в котором любопытно узнать черты отца, значительно, однако, смягченные. [Гойя страстно любил этого единственного сына, оставшегося в живых из двадцати его детей, и считается, что ближайшей причиной его смерти было то волнение, которое художник испытал, когда сын явился его навестить в Бордо. (Прим. автора.).] Особенно же эта женственная мягкость в сыне поражает после того, что любовался строгим, почти жестким портретом самого Гойи из музея в провинциальном городе Кастр, в который каким-то чудом попало несколько картин знаменитого художника, пожертвованных туда г. Брэнбуль.
Гойя не раз писал, рисовал и гравировал себя, и в этой серии автопортретов представлены многие очень разнообразные лики его характера. Мы его видим и мрачным, и презрительным, и веселым, и унылым, но нигде он не кажется именно столь строгим и сосредоточенным, как на этом портрете, где ему всего 35 лет и он еще не страдал от угнетавшей его с 1790-х годов глухотой. Строгое выражение лица выражает то напряжение и тот наплыв творческой энергии, которые овладевали художником, когда он принимался за живопись. Еще полный атлетической силы и железного здоровья, еще не знавший удержу своим страстям, еще не оставивший своих любовных авантюр и всяких проделок, художник, раз оказавшись с кистью и с палитрой в руках перед мольбертом, весь сосредоточивался на своей работе. Эта сосредоточенность и позволяла ему справляться с сыпавшимися на него со всех сторон заказами. С другой стороны, не будь перед изображенным лицом холста, не держи он в руке карандаш, легко было бы принять данный портрет за какого-либо матадора, и, глядя на него, вполне веришь тем легендам, которые рисуют нам Гойю не только страстным любителем боя быков, но и “практикующим знатоком” этой национальной забавы. Ведь считается даже, что, скрываясь в начале своей карьеры от полиции после ночной перепалки, Гойя записался в компанию тореросов и, лично участвуя в корридах, таким образом достиг портового города, откуда и отправился на корабле в Италию. [Полным контрастом этому “бодрому” портрету сложит картина, посвященная Гойей своему врачу Ариэту в память того, что тот спас его, уже 73 летнего старика, от опасной болезни (Прим. автора.).]
Портрет из Кастр принадлежит к большим драгоценностям выставки, но я все же предпочитаю ему “портретик” Aceнсио Хулия — одну из самых жизненных и самых блестящих картин во всем творении гениального художника. Это действительно картина, из которой гениальность “брызжет”, она сказывается как в абсолютно непринужденной концепции, так и в брио [Brio — блеск (итал.).] с которым она написана, так и в прелести красок, центром которых служит темный халат юного художника. И не скажешь, что эта веселая, бодрая картинка, в которой есть нечто от огненной романтики позднейшей эпохи, написана тогда, когда Гойю уже удручала глухота. Это, очевидно, эскиз, набросанный сразу, в несколько часов, едва ли не целиком a la prima [В один прием (итал.).], но набросан, задуман и исполнен он в одну из тех счастливых минут подлинного вдохновения, которые являются редкостью даже и для самых мощных творцов, для самых блистательных виртуозов. Несомненно приступил к написанию картины Гойя сразу, под свежим впечатлением увиденного, в перерыве над общей работой, скорее всего во время росписи церкви Сант-Антонио делла Флорида, которую Гойя украсил самыми блестящими и остроумными из своих церковных фресок. В глубине картины мерещатся какие-то стропила — те леса, на которые художники должны были взбираться под самый купольный плафон. Симпатичный, без сомнения, очень маленький ростом Асенсио застигнут на ходу, в момент, когда он куда то спешит, и вследствие того портретик этот имеет оттенок моментального снимка. Но какой же надо было иметь острый глаз, какую уверенность руки, чтобы так верно, так метко представить подвижного юркого человечка, чтобы фиксировать в этом изображении самую жизнь! И очень должен был любить Гойя своего молодого товарища, чтобы такой шедевр (несомненно сознавая, что он создал шедевр) подарить ему, как о том гласит собственноручная надпись на картине.
Из картин непортретного характера на выставке я особенно любуюсь большущим полотном все из того же музея в Кастр, изображающим заседание под председательством короля. Это, очевидно, был заказ — Гойя должен был увековечить какое-то торжественное сборище, которому в свое время придавали большое значение. Но художник для исполнения официальных заказов не менял своего подхода к делу и вкладывал в каждую работу не только всю свою профессиональную сноровку, но и всю свою душу. Едва ли его могло очень волновать то, что говорилось и постановлялось на этом сборище выборных людей, зато его пленило самое зрелище, и на сей раз не блеск и не великолепие, а нечто почти до трагичного мрачное. Поддаваясь наваждению этой странной, как бы всасывающей в себя картины, начинает казаться, что присутствуешь на каком-то странном судилище и что недаром центром этого суда является уродливая маска и мрачно маскарадный наряд того короля, который, предав родного отца, стяжал себе впоследствии такую прочную славу мракобесия, жестокости и бездарности, что и до сих пор эта слава лежит убийственной тенью на испанском королевском доме.
К этой замечательной картине имеется в берлинском музее небольшой, но необычайно пленительный эскиз. Там та же мрачная нота еще более подчеркнута, и в общем я лично эскиз предпочитаю окончательной версии. Но в последней имеются свои преимущества. Гойя, если даже и присутствовал на этом собрании, не мог, благодаря своей глухоте, слышать, что на нем говорилось, но тем более запомнились ему сами собравшиеся (если же он вовсе не был на заседании, то особенно отчетливо он себе все это вообразил). И вот интересно проследить, какими он увековечил всех этих важных персонажей. Чисто портретный элемент почти отсутствует, и картина Гойи тем самым отличается от картин аналогичного типа — от “Коронации Наполеона” Давида или от “Коронации Вильгельма” Менцеля. Но если лица как бы смазаны и подернуты некоторым туманом, то взамен их заинтересовывают жесты и позы, выражающие разные нюансы, разные оттенки реагирования. В общем портрет поражает и здесь (как и в официальных портретах Гойи) смесью обязательной торжественности с какой-то распущенностью, с чем-то прямо домашним. Поражает и общее впечатление той гнетущей тоски, которая является самой атмосферой подобных заседаний ведь все главное и существенное, что должно быть решено, заранее выработано и постановлено в кулисах.
Две чудесные картины из лилльского музея — “Молодость” и “Старость” — следует отнести к поздним годам творчества Гойи, но тем более удивительно, что в первой снова зазвучали те же молодые ноты, которые так пленяют в картонах к шпалерам. Да и в “контрастирующем пандане” [От франц. “pendant” — висящий, уравновешивающий; говорится о картинах или предметах, размещенных или специально созданных, чтобы составить гармоническое целое, части которого друг другу соответствуют по сходству или, наоборот, контрасту.] Гойя возвращается к тому саркастическому юмору, которым полны его “Капричос”. Не скажешь, что это картины старика, больного, одинокого старика. И хорошенькая маха, спешащая прочесть на ходу любовную цидульку, не обращая внимания на солнцепек (служанка только еще занята раскрытием зонта), и чудовищная старуха, глядящаяся в зеркало, которое перед ней держит похожая на смерть, изъеденная порочной болезнью дуэнья, тогда как к стулу бывшей красавицы уже подкрался Сатурн с тривиальной метлой вместо героической косы в руках, — обе эти картины как бы резюмируют все отношение Гойи к вечно женственному — отношение “знатока”, отношение “человека, который на своем веку успел написать тысячи любовных записок”, и в то же время человека, с гневным отвращением относившегося к тому, что часто в дочерях Евы с годами из соблазнительной прелести превращается в дикую насмешку. В первой картине запечатлена одна из mille е tre [Тысяча и три (итал.).] Дон-Жуана, во второй — звучит адский смех Мефистофеля.
Этот адский смех, для Гойи столь характерный и столь ему свойственный, звучит еще в трех других картинах выставки — в “Кошмаре” и в двух сценах “Каннибализма”. В “Кошмаре” едва ли нужно видеть какую-либо аллегорию. Скорее всего Гойя в этой гризайли [Сероватость (франц.), имеется в виду однотонная живопись, исполненная в различных оттенках одного и того же цвета (чаще всего серого либо оливково-зеленого.).] запечатлел действительно виденный им, поразивший его дикостью сон, и это именно не столько страшное и давящее, сколько нелепое и, скорее, смешное сновидение. Что может быть действительно более смешного, нежели эти взлетающие и плывущие по воздуху фигуры осла, быка и слона? Две другие картины из Безансона, происходящие из собрания тонкого коллекционера художника Жигу, свидетельствуют о “садических” наклонностях Гойи, полную волю которым он дал в своих “Desastres della Guerra”. [“Бедствия войны” (испанск.).] Считается, что эти две писанные на меди картинки изображают каннибалов, занятых разрезанием и приготовлением тела только что убитого ими епископа Квебека, но не будь этого обозначения, их легко можно было бы отнести к тем же изображениям сугубых безобразий войны, которые составляют среди всех офортов desastres Гойи отдельную группу. Гойя не без известного сладострастия останавливается на подобных омерзительных сюжетах, и уже это одно является весьма интересной проблемой в изучении его личности. Не есть ли это к тому же чисто национальная черта — та самая черта, которая с такой отчетливостью выражается во время любого боя быков, до которых как раз Гойя был страстным охотником? И не следует ли ту же национальную черту видеть в раскрашенных церковных статуях испанской скульптуры, в которой, до полной иллюзии, переданы кровавые раны и потоки слез, вызванные нечеловеческими страданиями. Наконец, где, как не в Испании, казни были возведены в ранг торжественных и даже душеспасительных зрелищ, любоваться которыми приглашались двор, духовенство и самая изящная публика. Нам всякая подобная мерзость душевного запустения продолжает и сейчас, после всех чудовищных военных избиений и бесконечных лет политического террора, казаться достойной всяческого презрения. Мы отворачиваемся от этого ужаса, и нам стыдно становится за человечество, так себя роняющего. Но едва ли такими чувствами руководился Гойя, когда он настойчиво разрабатывал свои сцены каннибализма, когда он их чертил иглой на меди и травил крепкой водкой <…>
1938 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: