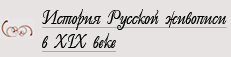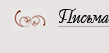Выставка Утрилло
КАРТИНА 1
Не так давно у Марселя Бернгейма была устроена выставка картин первоначального периода творчества Утрилло, ныне у Жоржа Пети снова показывается значительное собрание произведений мастера, и на сей раз они все относятся к последним годам, начиная с 1919 и кончая текущим.
Вообще Утрилло в галереях Парижа и на аукционах не редкость. Широкому кругу интересующихся современной живописью это даже хорошо знакомый художник. Мало того, он является одним из любимейших образцов для подражания. Выработалась “манера Утрилло”, как была в эпоху романтизма “манера Изабэ и Декана”, или в XVIII веке “манера Ватто и Бушэ”. И хорошо себе усвоившие эту манеру художники уже многие годы выставляют на разных официальных и неофициальных Салонах городские пейзажи, чрезвычайно похожие на такие же пейзажи их прототипа. С тех пор как Утрилло стал мировой знаменитостью и живопись его получила высокую котировку, то появились и подделки под него. Но, разумеется, сам Утрилло остается в стороне от всего этого, и его искусство обладает несравненно более ярким и внушительным характером, чем то, что вызвано к жизни его необычайным успехом, и такая выставка, как нынешняя, несомненно способствует “очищению” нашего представления о нем.
Это так тем более, что как раз последние произведения мастера, сгруппированные вместе, свидетельствуют о непрекращающейся эволюции его творчества. Пока его картины, и прежние и нынешние, видишь врозь, то все кажется утомительно одинаковым. Точно мастер, не способный подойти к задаче с интересом, свои картины, как пекарь — хлебцы. Верность раз найденной формуле придает творению Утрилло оттенок чего-то даже ремесленного. Самые толки об упадке мастера выросли на этом ощущении “почти убийственного” однообразия. Но когда видишь такое сопоставление произведений Утрилло, как нынешнее, когда с полной очевидностью понимаешь, чего именно художник добивается и как он при этом, оставаясь верным основной формуле, все же развивается, то, во-первых, получаешь несравненно большее уважение к пресловутой формуле, лучше улавливаешь, через ее различные фазисы, самую ее сущность, а затем уж никак не можешь заподозрить Утрилло в каком-то упадочном безразличии и в меркантильном цинизме. Видишь, чем художник горит, и ощущаешь самую силу этого горения... Даже однообразие формулы Утрилло получает другой смысл. Это уже не однообразие от бедноты и тупости, а однообразие от силы, от настойчивости в преследовании одной, раз навсегда себе поставленной цели.
В этой удивительно упрямой настойчивости Утрилло едва ли и не главная его прелесть. Искусство его какое-то жестокое, твердое, сжатое, но самое ощущение этой сжатости доставляет само по себе какое-то странное удовлетворение, точно пьешь горький, терпкий, но укрепляющий напиток. Утрилло что-то навязывает всей силой своей однобокой убежденности, но когда он это навязал, когда он покорил, то чувствуешь к нему благодарность; он чему-то научил, он что-то открыл, и это открытие ощущаешь в себе, как нечто ценное, как хорошее приобретение души. “Тупой ремесленник”, “беспомощный самоучка”, оказывается, раскрыл перед вами новые, до той поры неведомые горизонты. Отныне, когда случится забрести в какое-то провинциальное захолустье или в один из тех кварталов Парижа, которые более провинциальны, нежели самая глухая подлинная провинция, то невольно станешь смотреть на окружающее “через Утрилло”, и все это жалкое, унылое придется принять в душу, в нем найдешь и красоту, и поэзию. Это благо, это обогащение.
Но мне скажут, пожалуй, что мы и без того перенасыщены всякими художественными богатствами. Не напрасно люди “более естественные” указывают на опасность чрезмерной эстетизации и природы. Многие, в переизбытке вкусившие эстетических лакомств, исказили самую свою способность к восприятию. Каждую женщину они склонны зачислить в “категорию” Боттичелли, Ватто или Рубенса, при виде гор они думают о Каламе или Годлере, при виде моря — о Тернере и Моне, при встрече с новыми людьми вспоминаются типы из Стендаля и Достоевского, а в лесном шелесте слышится Вагнер, и т. д. Литература, музыка, живопись, скульптура как-то оттеснили живую жизнь, и это уже благом нельзя назвать, — это зло, и такому засилию искусства над жизнью следует противоборствовать. Но, с другой стороны, обострение нашей чувствительности, благодаря всякого рода откровениям, происходящим от литературы, музыки и пластических художеств, остается благом, и те лишь художники, которые одаривают нас такими новыми ощущениями, те заслуживают внимания, те только и остаются после того, что все приблизительное, подражательное, случайное постепенно со временем отсеивается.
В этом процессе отсеивания, в котором сотни и тысячи всяких художественных явлений нашего времени должны будут отпасть, улетучиться и исчезнуть из памяти, Утрилло удержится всем своим весом, всей своей утвержденностью. И останется он вовсе не потому, как думают некоторые, что вот ему удалось придумать какой-то трюк и что он этот трюк насильственно навязал, а потому, что его корявая, терпкая, жесткая, а в некоторых отношениях и уродливая, формула содержит в себе настоящую трепетность. Художник ее открыл не потому, что он искал как-то отличиться, обратить на себя внимание, прибегая к шарлатанским приемам, а потому, что, преследуя какой-то свой идеал, он только в такой формуле и мог его выявить. Утрилло совсем не шарлатан, но Утрилло совсем и не маньерист. Каждая картина его, при всей своей резкости, писана в какой-то лихорадке, причем можно оставить без внимания вопрос, какая доля этой лихорадки или какой оттенок этого бреда имеют (или имели) своими источником те или иные болезненные стороны его существования. К существу дела такая справка не относится, и, разумеется, не в алкоголе художественная сила его творчества. Характерный маньерист не знает возбуждения, вернее, того, что иным, нежели отсталым словом “вдохновение”, не назовешь. Напротив, все трепетно в Утрилло, и несомненно, эта трепетность тем глубже захватывает, что художник точно принимает особые меры, чтобы скрыть ее, как под сетью, схематично, иногда даже грубо начерченных линий, так и под ребяческой симлификацией форм, так и под тем упорством, с которым он всюду подчеркивает что-то будничное и в пейзажах и в зданиях.
Знаменитейшие памятники архитектуры при этом приобретают у него характер каких-то игрушечных построек, каких-то склеенных из картона, упрощенных донельзя моделей; листва у него кажется вырезанной из жести и покрашенной в ядовитые колеры, небо подчас не отличается от стенной штукатурки. И вот через все эти недочеты у Утрилло все же просвечивает его волнение, и именно оттого, что оно как-то пробивается через всякие препятствия, действие его заразительности приобретает особую силу и категоричность. Чем Утрилло сначала кажется неприятнее, тем он постепенно все более и более пленяет. И когда вы очарованы, то “картонные модели” уже не кажутся таковыми; готическим соборам, дворцам и замкам возвращается их внушительность, небеса уходят в сияющую бесконечность или грозно нависают, суля холод и непогоду; деревья выделяют нежную ароматичность; во всевозможных жалких уголках раскрывается присущая им поэзия — уютность или трагизм.
И вот еще что. По некоторым внешним признакам можно было бы зачислить Утрилло в ту категорию любителей, которую символически возглавляет “таможенник Руссо” и которая сейчас выросла в подобие целой секты. Но это сходство Утрилло с “наивными” и с “любителями” лишь внешнее или частичное. Существа же его искусства оно не касается. В чем до смешного наивен Утрилло, так это в тех человеческих фигурах, которыми он населяет свои городские пейзажи. Особенно забавна постоянно повторяющаяся схема двух повернутых спиной к зрителю дам в нахлобученных огромных шляпах. Наивна и подчас смешна перспектива Утрилло, упорная и неукоснительная, слишком точная. Но на этом и кончается сторона любительская и “беспомощная”, и как раз в произведениях, относящихся к последним годам, замечается все большая уверенность в распоряжении средствами; он постепенно вполне усваивает мастерство своего искусства. В картинах же, датированных двумя последними годами, такая победа над собой уже совершенно очевидна, и в Утрилло, в “корявом, жестком и связанном” Утрилло (без ущерба для стороны поэтической) появляются настоящая живописная свобода, большое богатство нюансов и даже какая-то виртуозность в технике... Утрилло вступает в классический период своего творчества, и почти все последние картины его не только курьезны и трогательны, но они и “прекрасны”; в них есть к тому же большая декоративная прелесть.
Менее другого удаются ему летние пейзажи. Его красочный вкус требует именно такой зелени — ядовитой и неестественной, и эта особая зеленая краска как-то врывается всюду и “кричит” (вернее, визгливо скрипит), нарушая общую гармонию. Тут ничего не поделаешь, таков именно его вкус. Зато совершенно прекрасны его зимы и весны. К некоторым уголочкам старого Монмартра Утрилло постоянно возвращается, и с каждым разом он все более и более углубляет ноту того щемящего настроения, которая присуща этим уже обреченным остаткам “провинции в столице”. Меланхоличность их получает почти трагический оттенок, когда они представляются нашим глазам покрытые белым покровом снега под нависшим свинцовым небом <…>
Иногда, впрочем, отдаешь предпочтение более ранним и менее совершенным произведениям перед более поздними и более мaстерскими. Так, например, большой вид на Монмартрскую Базилику (№ 9), писанный в 1924 году, остается непревзойденным. Как бредовое видение, выделяется масса куполов собора над пестрыми домишками. Самые небеса, в своей зеленоватой тусклости, точно отравлены злыми миазмами, сулящими какое-то надвигающееся бедствие. “Пошлости” архитектуры “Святого Сердца” уже не замечаешь... В другом роде картина “Биэвра в Жантильи” 1927 года, но и она обладает в своей нарочитой резкости и черноте какими-то преимуществами перед более совершенными, более смягченными картинами позднейших лет с аналогичными темами. Любительское наивное начало выступает здесь более определенно, но именно своей наивностью и какими-то “остатками беспомощности” такие картины особенно и трогают.
И все же я предпочитаю им и всей массе работ до 1930 года последние достижения мастера. Надо при этом думать, что на них Утрилло не остановится, а пойдет дальше на том же более широком и свободном пути, на который он вступил и где уже не замечаешь никаких следов преодоленного им недуга и пагубной страсти к алкоголю. Как бы только те, кто заинтересованы в помещении его картин и в том, чтобы художник не пугал “прирученного клиента” какими-то непредвиденными отступлениями, как бы эти маршаны и комиссионеры не удержали бы Утрилло от подобной, сопряженной с разными для них рисками авантюры. Преследуя свои цели, они будут настаивать на том, чтобы он продолжал поставлять такой “товар”, на который как бы уже получен снобический патент.
1934 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки:
Магазины метизов и крепежа в москве www.mir-krepega.ru/cat/krepezh/.
Клопы постельные уничтожение дезинфекция от клопов.