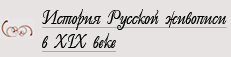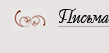Домье
Картина9
Домье я знаю с детства, так как у отца в библиотеке было несколько альбомов с чудесными его литографиями и, кроме того, разрозненные выпуски журнала “Шаривари”, из которых редкий не содержал его карикатур. Эти “смешные картинки” я “обожал” наравне с потешными историями Доре, Буша и (что уже покажется менее лестным для моего тогдашнего вкуса) с “Гошей долгие руки” и с “Машей разиней” прелестного, как-никак, Берталя. Меня занимало и то, что в русских сатирических журналах, в “Стрекозе” и “Будильнике”, я находил рисунки, которые мне казались совсем похожими на рисунки Домье и которые принадлежали карандашу даровитого русского художника А. И. Лебедева, хоть и бывшего лишь подражателем великого (тогда еще вовсе не считавшегося великим) француза, но все же показавшего совершенно исключительный дар сатирика и рисовальщика. И хотя бы то, что Лебедев избрал своим прототипом именно Домье (тогда как его товарищи “учились” на Гаварни, на Каме и на Гревене), — одно это показывает своеобразность и отменность его вкуса, одно это требует, чтобы Лебедев был спасен от забвения.
То мое детское обожание Домье было именно детским. Немного, впрочем, отличным от обычных детских увлечений, ибо меня с самого раннего возраста пленила “вкусность манеры”, но все же детским, то есть бесхитростным, не пытавшимся идти вглубь, да и не нуждавшимся в этом, ибо я вообще не ведал, что какая-то “глубина” существует. Но с годами это отношение стало меняться, и тогда как многие другие из тогдашних прежних моих любимцев стали постепенно отцветать в моей душе, Домье, напротив, оставался мне дорог, наравне с другими, самыми дорогими. Но все же до переезда в Париж я не сознавал всего величия Домье. Лишь после того, что, кроме карикатур, я здесь познакомился и с его картинами и рисунками, — я понял вполне, кого и за что я обожал уже многие годы. Окончательное же ознакомление с моим кумиром произошло на “Столетней выставке” 1900 года, где Домье-живописцу была отведена целая стена, и тогда же в “Мире искусства” я поделился с русским читателем тем впечатлением, которое произвели на меня эти вещи.
Вот что я писал: “Если бы спросили меня, кто более всего меня поразил на “Столетней”, то я, не задумываясь, ответил бы: Домье, — да, картины карикатуриста Домье, этого “старого” шутника, над шаржами которого хохотали наши деды...”. “Профессией Домье была карикатура, картины он писал, между прочим, в часы досуга, для себя, ни перед кем не позируя, просто и весело. Поэтому-то в его картинах оказалось так много непосредственности, и поэтому-то они так художественны. И как современен старик Домье! Глядя на эти, по большей части, небольшие вещицы, не верится, чтоб они были писаны тридцать, сорок и пятьдесят лет назад”. И далее: “Иные сравнивают Домье с Микеланджело, и положительно это сравнение (оно принадлежало Бальзаку) не так утрировано, как оно сразу может показаться. В меланхолической и красивой монотонности красок Домье есть что-то общее с благородной фресковой гризайлью Буонаротти. Склонность же его к изображению страстных, порывистых движений — опять напоминает Микеланджело в его скульптурах. Даже по духу эти два мастера похожи. У обоих любая композиция имеет какой-то сверхъестественный, титанический и универсальный характер...”.
С тех пор, как написаны эти строки, прошло более тридцати лет, из молодого энтузиаста я успел превратиться в старого (“все еще и несмотря ни на что” энтузиаста), с тех пор столько по дороге растеряно, забыто, столько отцвело, устарело, а вот Домье держится, он держится, несмотря даже на злоупотребление его именем; на то, что он превратился в своего рода жупел; на то, что культ мастера, при жизни не знавшего признания толпы (зато получившего признание Делакруа, Коро, Бальзака, Бодлера и Мишле), грозит ныне перейти в какое-то изуверство (в результате чего чрезвычайно возросла подделка под него). Целая литература посвящена Домье не только французскими историками и критиками, но и немецкими, английскими и американскими. Его творение изучено теперь до малейших подробностей, и все оно каталогизировано и перенумеровано. Домье стал “национальным монументом” (слава богу, еще не удостоившись рукотворного памятника на площади), он стал мировой ценностью. И все же Домье остается милым Домье, милым старым шутником, он остается тем же пленительным, чарующим другом, каким он был при жизни для весьма немногих и каким теперь его может считать всякий.
Я настаиваю на таком благодушном тоне в характеристике Домье. Сравнение его с Микеланджело, ставшее ныне общим местом, может быть, и не лишено известного основания, но все же оно звучит, как бутада, и является таковой. Пусть даже так: Микеланджело и Домье из одной семьи, — семьи титанов”, из той же семьи, из которой были Донателло, Тинторетто, Рубенс, Гомер, Данте, Шекспир, Бах и Бетховен, — но на этом “мистическом родстве” не годится настаивать, ибо это ведет к недоразумениям, к пустому фразерству. Скромный, застенчивый, любивший уединение Домье первый запротестовал бы против такого он, потешавшийся над всякими проявлениями “балаганного парада”, был бы бесконечно смущен и раздосадован, если бы его вытащили перед всемирной толпой и стали демонстрировать, как некое чудо природы, под грохот барабанов риторики. Напротив, Домье “милый, старый шутник” — это он сам и есть, но только, разумеется, старым он стал лишь к концу жизни, ничего при этом не утратив от своей “вечной” молодости, а милым он был всегда, и за эту самую “милость” он был удостоен тесной дружбы другого “милого” и не менее, нежели Домье, гениального художника — Коро.
Что же касается до того, что Домье был шутником, то это абсолютно так, и это вовсе не следует понимать в каком-то унизительном смысле. Карикатура была не только его профессией, но самой его природой, — тем естественным искажением, в котором, при всем его добродушии, представлялся ему мир. Вместе с тем, это был тот язык, на котором он выражался не только вследствие раз принятой привычки, но потому, что иначе он не мог бы выразить то, что ему нужно было выразить.
Для одних карикатура есть выверт, случайное отступление, случайная шутка на фоне какой-то жизненной серьезности. Для Домье шутка есть нечто нормальное, и, напротив, “серьезным” он становится очень редко, да и когда становится, то теряет значительную долю своей прелести. Так, наиболее серьезная из его политических карикатур, сколько бы их ни превозносили поклонники, уступает его просто “смешным” бытовым сатирам, и точно так же в его аллегорической картине “Республика 1848 (в которой он явно подражает Милле) Домье далеко не представляется на том же уровне, нежели в других его живописных произведениях, — там, где он совсем самобытен, иначе говоря, смеется или улыбается, где он “шутит”.
Однако Домье особого порядка. Разумеется, если это и смех, то смех божественный. О, да! что касается божественной природы искусства Домье, то в этом не приходится сомневаться. Как его измышление и наблюдательность, как его краски (тот минимум красочности, каким он пользуется, достигая при этом совершенно изумительной “колоритности”), так и его штрих, то тяжелый и сочный, то “воздушный” и нервный, — все носит “печать божества”. В его численно колоссальном творении (одних литографий Домье насчитывается свыше четырех тысяч) с трудом выищешь несколько произведений, в которых обнаруживаются усталость, недуг (к концу жизни Домье почти ослеп) или временное, прикрытое рутиной “равнодушие”. Не может быть, однако, чтоб Домье не испытывал моментов крайней депрессии; этот художник, за которого теперь платят сотни тысяч, — всю жизнь едва перебивался, и не будь благородной помощи Коро, — он неминуемо “кончил бы под мостом”. Откуда же бралось это неослабное вдохновение? Откуда, как не бога”?
Еще одно доказательство присутствия в “шутнике” Домье “божественного начала” — это его совершенно своеобразный дар наблюдательности. Одним из упреков, который часто делали Домье, является упрек в однообразии, проистекавшем от какой-то рутинной отрешенности от настоящей жизни. И, действительно, когда листаешь его альбомы, то кажется, точно видишь все одни и те же лица, все одни и те же несколько условные шаржи. Но почему же тогда, оторвавшись от этих листов и перенеся свое внимание на окружающую действительность (а ведь, казалось бы, наша действительность давным-давно уже не действительность Домье), все приобретает какое-то фамильное сходство с теми изображениями, какие мы только что видели? Проделайте хотя бы такой опыт на обеих выставках, сейчас посвященных Домье, — на той, где собраны картины и рисунки в Оранжерее Тюильри, и на той, где собрано “печатное творение” его, — в Национальной библиотеке. И там, и здесь, осмотрев то, что на стенах и в витринах, попробуйте со стороны поглядеть на толпу обозревателей, к которой вы сами только что принадлежали. Вас поразит, что все типы из Домье.
Рассказывают, что Гамбетта, глядя на посмертной художественной выставке на рисунок, изображающий собрание адвокатов, попробовал “наклеить имена” на каждое из изображенных лиц. Разумеется, трибун ошибался, ибо портретных шаржей Домье в этот период жизни не делал. Но, с другой стороны, глядя теперь на тех же адвокатов и прокуроров, “созданных” Домье, и нас, в свою очередь, тянет “наклеить” на них имена — знакомых “героев наших дней...”. Это ли не чудо? Это ли не доказывает, что Домье был острым и точным наблюдателем? Но только его наблюдения никогда не были мелочными, а созданные им типы (кроме его политических шаржей в начале его деятельности) не были “персональными пасквилями”. Его наблюдения касались не отдельных личностей, а как бы всего рода человеческого. И вот откуда его общечеловеческое (а вовсе не только национальное) значение, вот откуда и глубина, — несмотря на всю “шутливость формы”, посредством которой он ее выражал.
Домье не был (несмотря на большую распространенность его карикатур) по заслугам оценен своими современниками. Все изображаемое им казалось до того обыденным, что массы не способны были различить под этим нечто “чрезвычайное” и “божественное”. Винить при этом некого. Мало того, та атмосфера серого полумрака, в котором протекала жизнь художника, была ему как раз нужна. Быть может, он ее сам создавал и поддерживал — из чувства известного самосохранения, из нежелания покинуть состояние зрителя и превратиться в “действующее лицо” той самой комедии, над которой он не уставал потешаться. Он не переставал потешаться и тогда, когда он негодовал, а там, где он пытался “всерьез рассердиться”, там уже Домье “терял себя” и становился бесконечно менее пленительным.
Мысль о каком-то фонаре (скорее волшебном, нежели “протокольном”), который был в руках у этого нового Диогена, навязывается сама собой при взгляде на творение Домье. Оно все освещено каким-то особенным светом, благодаря которому формы выступают из мрака, благодаря которому и самая плоская проза становится поэзией... Недаром Домье сравнивают еще с Рембрандтом и Гойей...
1934 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: