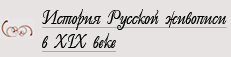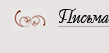Выставка финских художников в Петрограде в апреле — мае 1917 г.
I. Финляндцы и мы
Та выставка, на которой мы после ряда разрозненных выступлений впервые соединились в одну группу(впоследствии назвавшуюся “Миром искусства”), соединила нас и с нашими финляндскими друзьями. Почти на треть выставка русских и финляндских художников, устроенная Дягилевым, содержала произведения финляндских мастеров. С тех пор произошел перерыв в целых 18 лет. За это время мы уже успели привыкнуть к мысли, что между нами и ими жесткая, нелепая политика положила непреодолимую пропасть. Но ныне революция среди прочих своих благодеяний дает нам радость снова увидеть финляндцев среди нас, и я заранее радуюсь возможности наслаждаться их освежающим, благородным искусством.
За эти 18 лет мы настолько потеряли из виду творчество наших заграничных товарищей, что выставка их представляется нам чем-то совершенно новым и незнакомым. Для меня книга финляндской живописи закрылась на имени Энкеля, тогда еще совершенно юного. Ныне я снова ее открою на незнакомых именах; придется, следовательно, перечесть и все на пропущенных страницах — иначе не понять связи рассказа. Но начало было настолько пленительным, что и в продолжении книги, без сомнения, мы найдем то же наслаждение и ту же свежесть. Душа финляндского искусства, что бы там у них за это время ни происходило, должна была остаться той же душой их угрюмого, но верного себе народа, душой их суровой, но насыщенной здоровьем страны.
Сейчас такой момент, когда нам нужно соединение именно с людьми такой души. Финляндцы наши друзья, но они могут быть и нашими учителями, нашими целителями. Вот целый народ, который несет свободу в себе, которого не только не смогла сломить вся пыточная система нашей политики, но который прошел это испытание с тем ясным спокойствием, на которое способны лишь люди, обладающие силой чрезвычайной. Быть может, на поверхностный взгляд, это их спокойствие кажется чуждым, почти неприятным. Побольше нерва, побольше темперамента, побольше эффекта — вот призывы, которые слишком часто слышатся в наших рядах “дилетантов истории”, привыкших смотреть на жизнь мира как на любопытный спектакль. И даже когда театр, в котором шел эффектный спектакль, объят пламенем, мы все еще неспособны опомниться, мы все еще продолжаем натравливать друг на друга актеров. А рядом с нами живут вот эти невозмутимые люди, которые из общения с природой выработали в себе то прекрасное спокойствие, от которого до настоящей мудрости один шаг.
Это не бедность, не равнодушие. О, нет, финн не беден фантазией, финн не безразличен, финн не вял и не лишен темперамента. Никто так не страстен в гневе, как финляндец. Его ясный, светлый, кажущийся апатичным взор вдруг сверкнет грозной молнией или же улыбнется удивительной нежностью. Но финляндец действительно не тратит ни гнев, ни нежность понапрасну. Он по натуре своей и в самом благородном смысле слова бережлив. Зато он внушает абсолютное доверие, зато все у него имеет свою настоящую, не раздутую цену. Вот и искусство финляндцев ничего не прячет и не наряжено в какую-либо мишуру, а являет то самое, что оно есть. Зато ему и веришь абсолютно, зато оно и действует на настроение так же, как скалы и сосны, озера и водопады Финляндии. Здоровьем веет от них и от него, оздоровительным ощущением какой-то целомудренной наготы.
Технические источники финляндского искусства отчасти в Мюнхене и Дюссельдорфе, но в особенности в Париже. Большие аналогии финляндцы имеют и со всеми своими соседями скандинавами. Моментами затрудняешься даже определить точную границу, за которой кончается царство Цорна, Лильефорса и Хамерсой и начинается царство Эрнефельда, Риссонена и Халлонена. Но в основе своей финляндцы остаются своеобразными и верными только себе. И в этом еще один оздоровляющий урок для нас. Они не боятся учиться у других, ибо знают, что, сколько бы ни учились, им своей сути не затушить, не задавить. Им чужд маскарадный национализм, ибо они национальны по природе. Как фламандцы в XVII веке остались верными себе и создали великое национальное искусство в лице Рубенса и Иорданса, несмотря на торжество нивелирующих гуманистических идей и на владычество Испании, так и финляндцы, несмотря на свою космополитическую культуру и на давление русского каблука, сумели выразить с большой полнотой свое миросозерцание в искусстве, не прибегая при этом к той бутафории, к той “игре в национальное”, которыми у нас ознаменовались последние годы старого, запутавшегося во лжи режима.
По всем этим причинам душевно хотелось бы, чтобы нынешнее появление финляндцев не осталось случайным, а перешло в настоящее сотрудничество с нами.
Перед русским искусством в обновленной, в спасенной от окончательной (моральной) гибели России открываются безграничные новые задачи. Нужно все новое. Но действительно новое обретается лишь в правде — в заглядывании в собственную душу. В отжившие дни лжи вполне свободно развивалось лишь подлое или ложное. Ныне же, если бог продлит России дни мудрости, мы, быть может, действительно станем одним душевным народом, причем и наше творчество художественное озарится подлинной душевностью. А так как сохранение этой душевности нелегкое дело, и коренное перевоспитание себя на правде нелегкое дело, и создание здорового, правдивого искусства нелегкое дело, то вот именно в такие трудные дни приятна и нужна прочная опора дружбы. Такую опору дружбы и могут дать именно финляндцы, их крепкая, цельная культура, их здоровое, прочное, насквозь правдивое искусство.
28 марта 1917 г.
II. Финская выставка
В неудачный момент открылась финская выставка. Сейчас положительно не до искусства, когда речь идет просто о жизни. Лежа на одре тяжкой болезни, можно еще, пожалуй, заботиться о том, чтобы закрепить, на случай печального исхода, свои драгоценности за наследниками, и таким образом и спасти драгоценности и осчастливить наследников. Но трудно, пребывая в муках и страданиях, самому наслаждаться.
А затем и самые вещи, присланные финнами, не настолько поразительны, чтобы в столь неудобный момент отвлечь к себе внимание широких кругов. Мы ожидали другого; не знаем — большего или лучшего, но во всяком случае другого. На обещанной нам финской выставке мы рассчитывали увидать главным образом корифеев финского искусства: Галлена, Халлонена, Энкеля, Зигберга, Вальгрена. Но их-то как раз на выставке не оказалось. Некоторые из этих превосходных художников самолично прибыли в Петербург и тем самым показали, что их воздержание от участия в выставке не имеет в основе какое-либо недоброжелательство. Но произведений своих они не могли дать, так как война застигла эти произведения разбросанными по выставкам в разных городах Европы и Америки, а собрать теперь что-либо через моря и проливы нет возможности. Выставка оказалась без корифеев, и это, разумеется, не послужило ее успеху.
И все же успеха она достойна. Получилась очень скромная, тихая, чуть-чуть слишком серая и тусклая выставка, но от первой до последней картины она являет подлинно художественный облик. Если выставка не производит ни в малейшей степени веселого впечатления и в целом от нее веет известной чисто финской угрюмостью, то все же, обозревая ее, получаешь художественное удовлетворение, нигде не нарушаемое диссонансами безвкусия или безграмотности. Есть и перед чем постоять, во что углубиться, чему тихо порадоваться. Хороший художник, вышедший из народа, познавший в детстве ужасы бродячего нищенства, Риссонен, бывший одно время учеником Репина. Его искусство имеет какую-то простонародную прелесть; оно немного наивно, с определенной склонностью к примитивизму и в то же время тонко и нежно. Он любит большие декоративные здания, тяжелые фигуры, очень просто нарисованные и очень просто расцвеченные. Он рубит свои формы и почти не признает сложной операции лепки. Но под этим чувствуется большое мастерство и уверенный вкус. В том же характере поиски упрощения Колина и Олиллы. Из французов они напоминают Мориса Дени хорошей (давно уже прошедшей) поры и еще более — малоизвестного русской публике Ипполита Фландрена. Париж вообще продолжает быть настоящим питомником в котором созревают финские таланты. Так, к Руо и к раннему Пикассо приближается Салинен; Вюйара и Боннара напоминают Зигберг, Эклунд, Макконен и Гран. Из других финнов, вероятно, кто помоложе напоминают Дерена, Брака, кто постарше стараются подходить к своей задаче на путях, указанных еще Ренуаром или пуантелистами.
Указание на “паризизм” новейших финнов отнюдь не должно подрывать доверия к искренности, чистоте и поэтичности их искусства. Несмотря на то, что многие среди них обучались своему мастерству на берегах Сены, финны сохранили самую тесную и сердечную связь со своей родиной. Без тени “национализма” (скорее известный “национализм” был присущ художникам предшествующего поколения) их искусство в полной мере обладает своеобразностью и чистосердечной народностью. С другой стороны, “паризизм” дал им прочную техническую основу и очистил их путь. Нужно признать при этом, что финское благоразумие удерживает их от каких-либо чрезмерных чудачеств, а привитая с пеленок культурность дает им возможность отлично разбираться в “столичном” творчестве. В финнах, при всей скромности их быта, нет того провинциализма, который, например, так режет глаз у современных немцев, у итальянцев и у нас.
Из отдельных картин я укажу на романтический этюд “Лошади” Колина и на его натюрморт окна”, на поэтическое, озаренное холодным финским солнцем “Прощание” Олиллы, на натюрморты Эклунда, Неллимарки и Грана...
30 апреля/13 мая 1917 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: