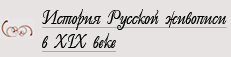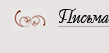Выставка английской карикатуры
Эта выставка, устроенная в павильоне Марсан Лувра, простояла несколько месяцев, но мне за недосугом довелось ее увидать лишь под самый конец, чуть ли не накануне закрытия, и таким образом я не успел вовремя дать о ней отчет на этих страницах. Все же, хотя бы вдогонку, несколько слов о ней сказать следует, ибо это была выставка интересная, значительная, составленная с толком, снабженная достаточно обстоятельным каталогом, да и самая тема обладала известной злободневностью, ибо как раз в переживаемый момент мировой неуютности, грозящей ежечасно перейти в состояние мировой жути, чем-то своеобразно утешительным является оглядка назад, — когда Европа переживала подобные же периоды тревоги и ужаса, и однако же все это было затем своевременно изжито, все это с божьей помощью миновало, отодвинулось в глубь прошлого и стало просто если не поучительным (ибо никакие испытания род человеческий научить чему-либо не могут), то хотя бы просто любопытным de l'histoire plus ou moins romancee [Более или менее романтизированная история (франц.)].
За английской карикатурой сложилась репутация основоположницы карикатуры европейской, и, в частности, Хогарту делают честь считать его прямым родоначальником всей той семьи художников, которая от Джильрэ и Роуландсона тянется до Лича, Дики Дойля, обоих Крукшенков, Кальдекота и далее, простирается на всю карикатуру на континенте. Эта схема, как и большинство других в истории искусства, представляется чем-то чересчур упрощенным, а потому неточным. На самом деле и до XVIII века карикатура существовала. Она существовала в Англии, в Италии, во Франции, в Германии и в Нидерландах — достаточно вспомнить некоторые скульптуры готических соборов, шаржи Леонардо да Винчи, картины Босха и Брейгеля, шутки пера и кисти Гверчино, Калло, Адриана ван де Венне. Наконец, бесчисленные анонимные летучие листовки принялись с самого начала книгопечатания бичевать общественные пороки, высмеивать личности, игравшие первопланные роли, или просто потешаться над всякими смешными сторонами, как в отдельных индивидуумах, так и в целых классах, а то и в народах. Однако несомненно, что именно в Англии и именно, начиная с Хогарта, карикатура получает настоящее право гражданства, становится очень внушительным видом общественной сатиры, и в то же время она постепенно получает определенно художественный характер. Английская карикатура в целом становится чем-то монументальным, ей посвящают силы толпы рисовальщиков, она отражает всевозможные бытовые явления.
Продукция эта носит в большинстве случаев несколько анархический характер, то есть не служит какой-либо партии, а выражает то стихийное, а часто сумбурное, что подразумевается под словами “общественное мнение”, но иногда она превращается в оружие борьбы и сведение политических счетов. В период же больших бедствий английская карикатура получает характер “гласа народного”. Так, например, один беглый просмотр сатирических листков эпохи французской революции и наполеоновских войн открывает нам как бы самое сердце Альбиона — сердце, наполненное возмущением, гневом и той расовой ненавистью, которая в те времена казалась исконной и навеки неискоренимой, но которая, к счастью, на действительном опыте оказалась бесследно проходящей и даже постепенно превращающейся в “сердечное согласие”.
Выставка в павильоне Марсан давала обильный материал для всякого, кто пожелал бы прислушаться к повествованиям Клио о мировых событиях, совершившихся 100 и 150 лет назад. На стенах было развешано все лучшее, что было сочинено гениальным Джильрэ, избравшим своей главной мишенью “маленького Boney” [Бони. Одно из прозвищ Наполеона] (Бонапарта), но не щадившего и членов королевского дома и представителей английского правительства. Хохоту Джильрэ, нередко принимавшему оттенок чего-то сатанинского и тогда переходившему границы не только хорошего вкуса, но и простого приличия, вторили другие “смехачи” политического характера: Бенбери, Исаак Роберт Крукшенк, Джон Бойн, Генри Хиф и Вудворд. Все это вместе взятое окунало посетителя выставки в самую гущу былых споров, распрей, интриг и иллюзий, и кому дано увлекаться всем этим, тот мог здесь получить особенно острые ощущения — не столь далекие от тех, что испытывают завсегдатаи кулачных и петушиных боев. Но посетитель выставки находил в ней и другие наслаждения, далекие от марсовых потех и политических скандалов, и надо отдать справедливость устроителям — Франко-британскому содружеству в искусстве и в туризме, — что они обратили особое внимание не на такие специальные проявления суеты сует, а на отражения жизни более разумного и умиротворяющего характера. Правда, и там, где, вместо того, чтобы издеваться над политическими фигурами и событиями, художники потешались над всем непосредственно окружающим, они никого и ничего не щадили, но все же тут сатира теряла свой отвлеченный и несколько вздуто-патетический характер, тут она становилась конкретной, отражала действительность без особой деформации, и в результате получалась та простота, подчас и та мягкость, которая для нас лучше вяжется с представлением об искусстве.
Серию этих “отражений действительности в более или менее кривых зеркалах” открывали на выставке одна картина Хогарта и ряд его гравюр. Гравюры эти всем отлично известны, ибо все они были воспроизведены во всевозможных изданиях, и потому на них сейчас останавливаться не стоит. Зато живопись Хогарта представляется большой редкостью на континенте, и для тех, кто не бывал в Англии и не видел картин Хогарта в Национальной галерее и в музее Слоана, даже эта одинокая картина великого сатирика представляла особый интерес, ибо она характерна для него и как карикатура на жеманность снобов середины XVIII века и просто как “кусок живописи”. Не надо забывать, что Хогарт был превосходным красочником и мастером кисти, и в сущности становится даже досадно, что мастер эти свои высокие качества почти всегда приносил в жертву своему темпераменту насмешника и рассказчика.
Отличными кусками живописи являлись несколько других картин на выставке. Одна из них принадлежит самому главе английской школы XVIII века сэру Джошуа Рейнольдсу и изображает в гротескном виде сборище всяких знаменитостей, сгруппированных на манер афинской школы Рафаэля. Другая картина аналогичного характера принадлежит кисти довольно таинственного художника Томаса Патча и опять-таки рисует компанию видных персонажей из мира искусства, оживленно беседующих, причем тут же на клавесине играет сэр Джон Дитч, а на стене красуются “Виды Арно” Патча. Третья прелестно писанная картина-карикатура кисти Роберта Смирке издевается над теми художниками-портретистами (вроде Ромнея и Лоуренса), которые, льстя своей модели, и самую уродливую женщину превращали в чарующую Гебу или Психею. Четвертая картина вовсе и не карикатура, а представляет среди типичного английского прибрежного пейзажа чаепитие супругов Гарриков в компании с друзьями. Этот перл писан Дзоффани (1735 — 1810), мастером, которого за его правдолюбие ныне многие предпочитают былым любимцам — салонным льстецам, надоевшим своей приторностью. Наконец, пятая картина принадлежит уже XIX веку. Это смехотворная сцена, изображающая, как, к общему удовольствию присутствующих, женщина бреет клоуна Гримальди. Автором этой картинки является глава карикатуристов эпохи Диккенса и первый его иллюстратор Джордж Крукшенк, и интересно констатировать, что, подобно его предшественнику Хогарту, и в Крукшенке под оболочкой памфлетиста и иллюстратора крылся подлинный дар живописца.
В присутствии исключительного живописного дара никак уж не усомнишься, изучая творчество Роуландсона (1756 — 1827), представленного на выставке наиполнейшим образом — не только целыми сериями акватинт, частью раскрашенными, но и (в еще большем количестве) оригинальными рисунками и акварелями.
Все названные художники — типичнейшие англичане, но, пожалуй, самым типичным среди них является именно Роуландсон — этот “неугомонный смехач”, этот певец “жирной, сочной” жизни merry old England [Доброй старой Англии (англ.).]. Сатира Роуландсона совершенно лишена той желчности, что сквозит всюду в фантазиях Джильрэ или старшего Крукшенка. Роуландсон в основе своей благодушен и, пожалуй, скорее сочувствует всем тем толстякам и толстухам, лентяям и тунеядцам, что разыгрывают у него сложные сцены среди очаровательно намеченных пейзажей и городских улиц. Когда же он пытается изобразить собой строгого цензора или даже обличителя-трибуна, то из этого не получается чего-либо убедительного — не то, что у Джильрэ, карикатуры которого даже сейчас еще не утратили своей “опасной” язвительности. Сами по себе композиции Роуландсона чаруют как разлитым всюду светом, так и тем, как расположены группы, как непринужденно он заставляет двигаться или отдыхать свои персонажи, как бегут у него лошади, как возятся собаки, каким все человечество в его изображении, даже там, где изображены зловещие старухи, калеки, астматики-старики, жулики и грабители, кажется забавным и почти всегда привлекательным. И в то же время Роуландсон не впадает ни в приторность, ни в сентиментальность, ни в салонное жеманство. Местами чувствуется в нем современник Фрагонара, Сен-Обена, Дебюкура и Буальи, местами даже сказывается внешнее влияние этих типичных французов на этого типичного англичанина, но в то же время разница расовая и культурная между ними не перестает бросаться в глаза. Насколько французы, при всей своей непринужденности, изящнее! От всех них как бы веет запахом дорогих духов, и никто никогда у них не разражается жирным хохотом, все лишь мило, сдержанно улыбаются. Англичанин же производит совершенно иное и, пожалуй, более здоровое впечатление. От его композиций тоже веет запахами, но это запах полей, сена, деревьев, морского ветра, а иногда доносятся и всякие другие, несравненно менее приятные, ароматы, однако всегда “ароматы натуральные”. Даже тогда, когда Роуландсон рисует аристократические залы, он остается чем-то вроде деревенского фермера, он как бы в грязных дорожных сапожищах влезает в золоченые гостиные или разгуливает в самом неподобающем домашнем платье в тех местах, где собирается самый что ни на есть high life [Высший свет (англ.).], украшенный звездами и лентами. Вот уж про кого можно сказать, что его искусство демократично, причем, однако, ему чуждо всякое подхалимство перед Sa Majeste le Peuple [Его величеством народом (франц.).], он весь прост, откровенен и искренен. Чудесный художник Роуландсон, и художник до мозга костей национальный — типичный Джон Буль живописи.
Надо кончать мой запоздалый отчет. Но как не упомянуть еще о целом ряде прелестных мастеров, украшавших выставку английской карикатуры, — о швейцарце Фюсли, о Джоне Коллете, о Натаниэле Дансе, о Джоне Броуне и Дж. M. Вудворте — для XVIII века; о старшем Дойле, о Шэлоне (шаржи на певцов), о Хифе — для XIX века. Обидели только устроители выставки одного из моих наилюбимейших художников — Дики Дойля (сына Джона Дойля), прославившегося, главным образом, созданием в 1840-х годах знаменитейшей на весь мир (и оставшейся знаменитой в течение почти целого столетия) обложки Punch'a. Но Дойль автор не только этой заглавной картинки, отличающейся к тому же некоторой надуманностью. Его подлинные шедевры — это те “синтетические картинки” английского буржуазного общества, которые тоже появились на страницах и серия которых оборвалась после того, как Дойль, бывший убежденнейшим католиком, повздорил с редакцией по вопросу о позиции журнала в клерикальных вопросах. Эти синтетические картинки в смысле ознакомления нас с Англией времени ранней Виктории служат не менее ценным, достоверным и в то же время ультрапотешным материалом, нежели самые блестящие страницы в “Пиквике” или “Ярмарке суеты”.
1938 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: